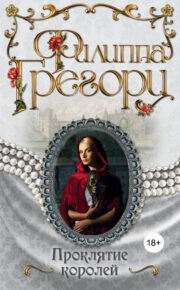– Он с нами говорил, потом пригласил с ним отобедать, мы остались и хорошо поели. Потом ему нужно было уходить, и он попросил Джеффри зайти на следующий день, потому что ему нужно было что-то еще выяснить.
Я чувствую, как в груди у меня снова все сжимается, и похлопываю себя по основанию горла, словно хочу напомнить сердцу, чтобы не забывало биться.
– И Джеффри пошел?
– Я велел ему пойти. Сказал, чтобы был совершенно откровенен. Кромвель читал письмо, которое Холланд отвез Реджинальду. Он знал, что оно не о цене на пшеницу в Беркшире прошлым летом. Он знал, что мы предупредили Реджинальда о том, что Фрэнсис Брайан послан его захватить. Он обвинил Джеффри в неверности.
– Но не в измене?
– Нет, не в измене. Нет измены в том, чтобы сказать человеку, собственному твоему брату, что кто-то едет его убить.
– И Джеффри сознался?
Монтегю вздыхает.
– Поначалу он все отрицал, но потом стало очевидно, что Холланд пересказал Кромвелю оба письма. Письмо Джеффри Реджинальду и ответ Реджинальда нам.
– Но в них все равно нет измены.
Я так и цепляюсь за эту мысль.
– Нет. Но они, очевидно, пытали Холланда, чтобы он рассказал про письма.
Я сглатываю, вспоминая круглолицего человека, приходившего ко мне, и синяк на его щеке, когда его провезли мимо нас по дороге.
– Кромвель осмелится пытать лондонского купца? – спрашиваю я. – А как же его гильдия? Его друзья? Как же купцы из Сити? Они что, не защитят своего?
– Кромвель, видимо, считает, что он что-то замыслил. И явно осмеливается, и поэтому вчера он арестовал Джеффри.
– Он не… Он не…
Я не могу сказать о своем страхе вслух.
– Нет, Джеффри он пытать не будет, он не посмеет коснуться одного из нас. Королевский совет этого не позволит. Но Джеффри в панике. Я не знаю, что он может сказать.
– Он в жизни не скажет ничего, что нам повредит, – говорю я и чувствую, что улыбаюсь, даже в опасности, при мысли о любящем верном сердце сына. – Он никогда не скажет ничего, что повредит кому-то из нас.
– Нет, и к тому же в самом худшем случае мы всего лишь предупредили брата, что ему грозит опасность. Никто не может нас за это винить.
– Что мы можем сделать? – спрашиваю я.
Мне хочется немедленно мчаться к Тауэру, но у меня ослабли колени, я даже встать не могу.
– Нам не позволено его видеть; только его жена может зайти в Тауэр и повидаться с ним. Я послал за Констанс. Завтра она будет здесь. А после того, как она с ним встретится и удостоверится, что он ничего не сказал, я снова пойду к Кромвелю. Может быть, даже поговорю с королем, когда он вернется, если застану в добром расположении духа.
– Генрих об этом знает?
– Надеюсь, что нет. Возможно, Кромвель себя переоценил и король на него разгневается, когда узнает. Нрав у него нынче такой неустойчивый, что он срывается на Кромвеля так же часто, как соглашается с ним. Если я застану его в нужный момент, если мы ему будем по душе, а Кромвель вызовет его раздражение, он может воспринять это как оскорбление нам, его родственникам, и сокрушить Кромвеля за это.
– Он так переменчив?
– Леди матушка, никто из нас от зари до зари не знает, в каком он будет настроении и когда или из-за чего оно внезапно изменится.
Я провожу остаток вечера и большую часть ночи на коленях в часовне, молясь своему Господу о том, чтобы уберег моего сына; но не могу быть уверена, что Он слушает. Я думаю о сотнях, тысячах матерей, стоящих сегодня ночью в Англии на коленях, молящихся о своих сыновьях или за души сыновей, которые умерли за меньшее, чем совершили Джеффри и Монтегю.
Я думаю о дверях аббатств, хлопающих под летней английской луной, о ковчежцах и святых дарах, вываленных на сверкающие булыжники темных площадей, когда люди Кромвеля рушили святилища и выбрасывали реликвии. Говорят, что усыпальницу Томаса Бекета, к которой сам король приближался на коленях, вскрыли, и богатые подношения и бесценные сокровища исчезли в новом Суде приобретений лорда Кромвеля, а священные кости святого были утрачены.
Какое-то время спустя я сажусь на пятки и чувствую, как у меня болит спина. Я не могу заставить себя докучать Господу; Ему столько нужно сегодня исправить. Я думаю о Нем, старом и усталом, как я сама, о том, что Он чувствует, как и я, что слишком многое нужно исправлять и что в Англии, Его любимой стране, все идет не так.
Констанс едет прямиком в Тауэр, едва добравшись до Лондона, а потом приезжает в Л’Эрбер. Я отвожу ее в свои личные покои, даю кубок эля с пряностями, снимаю перчатки с ее холодных рук и шаль с худых плеч. Она смотрит то на меня, то на Монтегю, словно думает, что мы вдвоем сможем ее спасти.
– Я никогда прежде его таким не видела, – говорит она. – Я не знаю, что делать.
– Что с ним? – мягко спрашивает Монтегю.
– Плачет, – отвечает Констанс. – Беснуется, мечется по комнате. Колотит в дверь, но никто не приходит. Хватается за решетку на окне, трясет ее, словно думает, что может развалить стену Тауэра. А потом повернулся, упал на колени и заплакал, говоря, что не вынесет всего этого.
Я в ужасе.
– Его не тронули?
Она качает головой:
– Тело нет, но гордость…
– Он сказал, что ему вменяют? – терпеливо спрашивает Монтегю.
Она качает головой:
– Вы меня не слышите? Он не в себе. Он обезумел.
– Он помутился в уме?
Я слышу в голосе Монтегю надежду.
– Он как безумец, – говорит Констанс. – Молится, плачет, потом вдруг заявляет, что ничего не сделал, а потом – что его вечно все винят и что надо было бежать, но вы его остановили, что вы всегда его останавливаете, а потом говорит, что все равно не может остаться в Англии из-за долгов.
Она переводит взгляд на меня.
– Говорит, что его мать должна расплатиться по его долгам.
– Ты можешь сказать, допрашивали его толком или нет? Ему предъявили какое-нибудь обвинение?
Она качает головой.
– Нужно послать ему одежду и еду, – говорит она. – Ему холодно. В его комнате нет огня, а у него с собой только дорожный плащ. И он его бросил на пол и топтал ногами.
– Я сейчас же распоряжусь, – говорю я.
– Но ты не знаешь, допросили ли его и что он сказал? – уточняет Монтегю.
– Он говорит, что ничего не сделал, – повторяет она. – Говорит, что к нему приходят каждый день и кричат на него. Но он ничего не говорит, потому что ничего не сделал.
Тяготы Джеффри длятся еще день. Я посылаю мажордома с теплой одеждой, приказав ему купить еды в ближайшей к Тауэру пекарне и дать моему мальчику толком поесть, но он возвращается и говорит, что стражи взяли одежду, но ему показалось, что они оставят ее себе, а еды ему заказать не позволили.
– Я пойду завтра с Констанс и посмотрю, смогу ли я заставить их хотя бы отнести ему обед, – говорю я Монтегю, входя в гулкий зал приемов Л’Эрбера. В зале никого нет – ни просителей, ни крестьян, ни друзей. – А она может отнести ему зимний плащ, и немного белья, и постель.
Монтегю стоит у окна, склонив голову, и молчит.
– Ты видел короля? – спрашиваю я его. – Ты смог с ним поговорить про Джеффри? Он знал, что Джеффри арестован?
– Уже знал, – без выражения произносит Монтегю. – Я ничего не мог сказать, потому что он уже знал.
– Кромвель действовал с его позволения?
– Этого мы никогда не узнаем, леди матушка. Потому что король узнал о Джеффри не от Кромвеля. Он узнал от самого Джеффри. Джеффри, как выясняется, ему написал.
– Написал королю?
– Да. Кромвель показал мне письмо. Джеффри написал королю, что, если король прикажет устроить его с удобством, он расскажет все, что знает, пусть это и касается его собственной матери и брата.
Я слышу эти слова, но какое-то время не могу понять их смысл. Потом понимаю.
– Нет! – Я в ужасе. – Это не может быть правдой. Это наверняка подлог. Кромвель тебя обманывает! Это в его духе!
– Нет. Я видел записку. Это рука Джеффри. Я не ошибся. Именно это он и написал.