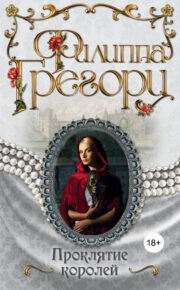– Он предложил предать меня и тебя за теплую одежду и хороший обед?
– Похоже на то.
– Монтегю, он, должно быть, лишился рассудка. Он бы никогда такого не сделал, он не причинит мне вред. Наверное, он сошел с ума. Господи, мой бедный мальчик, он, наверное, в бреду.
– Будем надеяться, – злобно произносит Монтегю. – Ведь если он сошел с ума, он не может давать показания.
Констанс возвращается из Тауэра. Ее поддерживают двое слуг, она не может идти и не может говорить.
– Он болен? – Я беру ее за плечи и вперяюсь в лицо, словно могу увидеть, что не так с моим сыном, на пустом от ужаса лице его жены. – Что случилось? Что такое, Констанс? Расскажи!
Она качает головой и стонет:
– Нет, нет.
– Он лишился ума?
Она закрывает лицо руками и всхлипывает.
– Констанс, ответь мне! Его пытали на дыбе? – Я произношу то, чего сильнее всего боюсь.
– Нет, нет.
– У него ведь не горячка, нет?
Она поднимает голову.
– Леди матушка, он пытался себя убить. Взял нож со стола и бросился на него, и он воткнулся рядом с сердцем.
Я выпускаю ее и хватаюсь за стул, чтобы удержаться на ногах.
– Рана смертельная? Смертельная? У моего мальчика?
Она кивает:
– Он очень плох. Мне не позволили с ним остаться. Я видела у него на груди толстую повязку, его пристегнули двумя ремнями. Он не говорит. Не может. Лежал на кровати, и сквозь повязки сочилась кровь. Мне сказали, что он сделал, а он молчал. Отвернулся к стене.
– У него был врач? Его перевязали?
Она кивает.
Монтегю входит в комнату у нас за спиной, лицо у него страшное, улыбка перекошена.
– Нож с обеденного стола?
– Да, – отвечает Констанс.
– А обед был хороший?
Вопрос такой дикий, такой странный посреди этой трагедии, что Констанс поворачивается и глядит на Монтегю.
Она не понимает, о чем он; но я понимаю.
– Он очень хорошо пообедал, несколько блюд, и огонь в очаге развели, и кто-то принес ему новую одежду, – отвечает она.
– Нашу одежду?
– Нет, – растерянно отвечает она. – Кто-то прислал ему новые вещи; но мне не сказали кто.
Монтегю кивает и, не сказав больше ни слова, выходит из комнаты. Он даже не смотрит на меня.
На следующее утро за тихим завтраком в моих покоях мы сидим рядом перед столиком возле моего камина, и Монтегю говорит мне, что его слуга не вернулся вчера вечером домой, и никто не знает, где он.
– Что ты думаешь? – тихо спрашиваю я.
– Думаю, Джеффри сказал, что он носит мои письма и исполняет поручения, и его арестовали, – так же тихо отвечает Монтегю.
– Сынок, я не верю, что Джеффри предал нас или кого-то из наших людей.
– Леди матушка, он обещал королю, что предаст нас обоих за теплую одежду, дрова и хороший обед. Ему вчера подали хороший обед, а сегодня принесли завтрак. Сейчас его допрашивает Уильям Фитцуильям, граф Саутгемптон. Он ведет дознание. Лучше для Джеффри и для всех нас было бы, если бы он ударил себя ножом в сердце и попал.
– Перестань! – повышаю я голос на Монтегю. – Не говори так! Не смей говорить эти злые глупости. Ты как ребенок, который не знает, что такое смерть. Никогда, никогда не бывает, что умереть – лучше. Никогда так не думай. Сынок, я понимаю, ты боишься. Думаешь, я не боюсь? Я видела, как мой брат ушел туда, в Тауэр, и вышел только для того, чтобы умереть. Мой отец умер там, обвиненный в измене. Ты не понимаешь, что Тауэр – это мой всегдашний ужас, и думать, что Джеффри там, – худший из кошмаров? А теперь я думаю, что могут взять и меня. И тебя тоже. Моего сына, моего наследника!
Я умолкаю, увидев, какое у него лицо.
– Знаешь, иногда я думаю, что это наше родовое гнездо, – очень тихо произносит он, так тихо, что я его едва слышу. – Наш старейший и самый подлинный дом. А кладбище Тауэра – наша семейная усыпальница, склеп Плантагенетов, куда мы все в конце концов отправляемся.
Констанс еще раз навещает мужа, но застает его в бреду и лихорадке из-за раны. За ним хорошо ходят и хорошо ему прислуживают, но когда Констанс к нему приходит, в его комнате женщина, которая обычно приходит убирать покойников, а у двери стоит страж, и он ничего не может ей сказать.
– Но ему и нечего сказать, – тихо говорит она мне. – Он на меня не посмотрел, не спросил про детей, даже про вас не спросил. Отвернулся к стене и плакал.
Слуга Монтегю Джером не появляется в Л’Эрбере. Нам остается лишь считать, что он или под арестом, или его держат в доме Кромвеля, дожидаясь, когда он даст показания.
А потом, сразу после третьего часа, входные двери распахиваются, и в дом входят йомены стражи, чтобы арестовать моего сына Монтегю.
Мы собирались завтракать, и Монтегю оборачивается, когда с улицы влетают золотые листья с лозы, поднятые ногами стражников.
– Мне идти немедля или сперва позавтракать? – спрашивает он, словно речь о чем-то незначительном и всем должно быть удобно.
– Лучше идемте сейчас, сэр, – несколько неловко отвечает капитан. Он кланяется мне и Констанс. – Прошу прощения, Ваша Милость, миледи.
Я подхожу к Монтегю.
– Я доставлю тебе еду и одежду, – обещаю я. – И сделаю, что смогу. Я пойду к королю.
– Нет. Возвращайся в Бишем, – поспешно отвечает он. – Держись от Тауэра подальше. Поезжайте сегодня же, леди матушка.
Лицо у него очень мрачное; он выглядит куда старше своих сорока шести. Я думаю, что моего брата забрали, когда он был маленьким мальчиком, а убили, когда стал юношей; а теперь забирают моего сына, у них ушло много времени, все эти долгие годы, чтобы за ним прийти. У меня кружится от страха голова, я не могу придумать, что делать.
– Господь тебя благослови, сын мой, – говорю я.
Он опускается передо мной на колени, как делал тысячи, тысячи раз, и я кладу руку ему на голову.
– Господь нас всех благослови, – просто отвечает он. – Отец всю жизнь пытался избежать этого дня. Я тоже. Может быть, все еще окончится хорошо.
И он поднимается и выходит из дома без плаща, без шляпы и перчаток.
Я во дворе конюшни, смотрю, как укладывают в повозки вещи для нашего отъезда, когда один из людей Куртене приносит мне записку от Гертруды, жены Генри Куртене, моего кузена.
Утром арестовали Генри. Буду у тебя, как смогу.
Я не могу ее ждать и говорю стражам и возницам ехать вперед, с повозками, по замерзшим дорогам в Уорблингтон, а сама приеду позже, на своей старой лошади. Я беру с собой полдюжины слуг и внучек, Катерину и Уинифрид, и еду по узким улицам к красивому лондонскому дому Гертруды, Дому Розы. Город готовится к Рождеству, торговцы каштанами стоят у горящих жаровен, помешивая жарящиеся орехи, и в морозном воздухе серыми дымными хвостами висят вызывающие столько воспоминаний запахи праздника: горячее вино с пряностями, корица, древесный дым, жженый сахар, мускатный орех.
Я оставляю лошадей у входной двери, и мы с внучками заходим в холл, а оттуда в зал приемов Гертруды. Он непривычно тих и пуст. Мажордом Гертруды выходит меня поприветствовать.
– Графиня, как печально видеть вас здесь.
– Почему? – спрашиваю я. – Кузина леди Куртене собиралась со мной повидаться. Я пришла попрощаться с ней. Я уезжаю в деревню.
Маленькая Уинифрид подходит ко мне поближе, и я беру ее за ручку, чтобы утешить.
– Моего господина арестовали.
– Я знаю. Я уверена, что его вскоре отпустят. Я знаю, что он ни в чем не виновен.
Мажордом кланяется.
– Я знаю, миледи. У короля нет более верного слуги, чем мой господин. Мы все это знаем. Мы все так и сказали, когда нас допрашивали.
– Так где моя кузина Гертруда?
Он мнется.
– Мне жаль, Ваша Милость. Но ее тоже арестовали. Ее отвели в Тауэр.
Внезапно я понимаю, что тишина этого зала полна эхом недавно и внезапно опустошенного помещения. Вот лежит вышивка на сиденье под окном, открытая книга на конторке в углу комнаты.
Я оглядываюсь и понимаю, что эта тирания похожа на другую болезнь Тюдоров, на потливую горячку. Она приходит быстро, забирает тех, кого ты любишь, без предупреждения, и защитить их от нее нельзя. Я пришла слишком поздно, нужно было поспешить. Я не защитила ее, я не спасла Монтегю или Джеффри. Я не вступилась за Роберта Аска, за Тома Дарси, Джона Хасси, Томаса Мора или Джона Фишера.