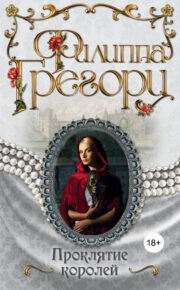– Вы ошибаетесь, милорд. Это было после того, как Джеффри себя ранил в Тауэре. Мы боялись, что он умрет, поэтому мастер Стэндиш и сказал, что боится, что Джеффри нас покинет.
– Вижу, вы кроите и меняете слова, – рассерженно говорит Уильям.
– Совершенно нет, – просто отвечаю я. – И я бы предпочла вообще никаких слов вам не говорить.
Я жду, что он снова явится после завтрака, но в мои личные покои вместо него приходит Мейбл; я как раз слушаю, как Катерина читает дневные молитвы. Мейбл говорит:
– Милорд уехал в Лондон и сегодня не будет вас допрашивать, сударыня.
– Я рада, – тихо отвечаю я. – Потому что очень утомительно снова и снова повторять ему правду.
– Вы будете не рады, если я скажу вам, куда он уехал, – говорит она со злорадным торжеством.
Я жду. Беру Катерину за руку.
– Он поехал дать показания против ваших сыновей на суде. Их обвинят в измене и приговорят к смерти, – продолжает она.
Речь об отце Катерины; но я крепко сжимаю ее руку, и мы смотрим прямо на Мейбл Фитцуильям. Я не собираюсь плакать при подобной женщине и горжусь тем, как владеет собой моя внучка.
– Леди Фитцуильям, вам должно быть стыдно, – спокойно произношу я. – Ни одна женщина не должна быть так бессердечна, говоря о печали другой женщины. Ни одна женщина не должна так мучить чью-то дочь, как вы. Неудивительно, что вы не можете подарить своему господину ребенка; если у вас нет сердца, то и чрева, очевидно, нет.
Ее щеки вспыхивают от злости.
– Может, у меня и нет сыновей, но скоро их и у вас не будет, – кричит она и вихрем вылетает из комнаты.
Мой сын Монтегю предстает перед присяжными, среди которых его друзья и родственники, ему предъявляют обвинение в том, что он высказывался против короля, одобрял действия Реджинальда и мечтал о смерти короля. Ощущение такое, что теперь Кромвель способен вести расследование в чужой голове. Духовник Монтегю донес Кромвелю, что однажды утром Монтегю сказал ему, что ему снилось, как его брат вернулся домой счастливым. Сон Монтегю допрошен и признан виновным. Монтегю заявляет, что ни в чем не виноват, но ему не позволяют выступить в свою собственную защиту. Никому не позволяют говорить от его имени.
Джеффри, ребенок, которого я оставила при себе, отослав его братьев, мое любимое дитя, мой испорченный сын, мой малыш, дает показания против своего брата Монтегю и кузенов Генри и Эдварда, против всех нас. Господь его прости. Он говорит, что поначалу хотел убить себя, чтобы не пришлось давать показания против брата, но по наущению Господа, будь у него хоть десять братьев или десять сыновей, он обрек бы их всех на смерть, но не оставил свою страну, своего сюзерена и собственную свою душу в опасности. Джеффри обращается к своим друзьям и родственникам в слезах.
– Пусть мы умрем, нас будет немного, по заслугам нашим, это лучше, чем если погибнет вся страна.
Что думает Монтегю, когда Джеффри свидетельствует в пользу его смерти и в пользу смерти наших кузенов и родственников, я не знаю. Я вовсе не думаю. Я очень стараюсь не слушать об этом суде и не думать, что он означает. Я стою на коленях в своей комнатке в Коудрее, где положила распятие и Библию, прижав к лицу стиснутые руки, и молюсь и молюсь о том, чтобы Господь внушил королю милосердие, чтобы тот отпустил моего невинного сына и отправил моего лишившегося ума сына домой к жене. За моей спиной Катерина и Уинифрид с растерянными и испуганными лицами молятся за отца.
Я тихо живу в своих комнатах, выходящих на заливные луга и зеленые склоны южных холмов, и мечтаю оказаться дома, мечтаю, чтобы сыновья были со мной, мечтаю о том, чтобы снова стать молодой, чтобы мою жизнь и надежды сдерживал мой скучный надежный муж, сэр Ричард. Сейчас я люблю его, как прежде мне не удавалось его полюбить. Я думаю о том, как он сделал целью своей жизни уберечь меня, всех нас уберечь, и о том, что надо было быть более благодарной. Но я достаточно стара и мудра, чтобы знать, что все сожаления бесплодны, поэтому склоняю голову в молитве и надеюсь, что он услышит, как я признательна за то, что он сделал, когда женился на молодой женщине, чья семья была слишком близка к трону, и что я знаю, что он совершил, когда все время отодвигал нас все дальше и дальше от губительного блеска. Я слишком устала нас прятать; мы – Белая Роза, ее цветок сияет даже в самых темных густых зарослях; он виден даже в ночном мраке, словно луна, упавшая с неба, светится в толчее листьев.
У себя в комнате в башне Коудрея я слышу, как дом начинает готовиться к Рождеству, совсем как мы в Бишеме, как король в Гринвиче. В доме постятся на Адвент; срезают ветки остролиста и плюща, ежевики и дрока и сплетают зеленый рождественский венок; вносят огромное полено, которое будет гореть в камине до конца рождественского праздника, репетируют песни и танцы. Заказывают особые пряности, начинают долгие приготовления зимних блюд к двенадцати дням праздника. Я слушаю, как за моей дверью шумит дом, и мне кажется, что я дома, пока я не очнусь и не вспомню, что я далеко от дома, жду, когда из Лондона приедет Уильям Фитцуильям и скажет мне, что сыновья мои мертвы и надежды для меня нет.
Он приезжает в начале декабря. Я слышу, как стучат по дороге копыта его лошадей, как его люди подзывают конюхов, и приоткрываю ставню в своей спальне, чтобы выглянуть. Я вижу Уильяма и его людей, общую суету, вижу, как его выходит встретить жена, как в холодном воздухе поднимается паром дыхание лошадей, как трескается ледок на траве под их копытами.
Я смотрю, как Уильям спешивается, какой на нем яркий плащ, какая вышитая шляпа, как он бьет кулаком в ладонь замерзшей руки. Рассеянно целует жену, громко отдает приказы своим людям. Этот человек заставит мое сердце разбиться. Этот человек скажет мне, что все было впустую, что вся моя жизнь бессмысленна, что моих сыновей больше нет.
Он сразу идет ко мне, словно ему не терпится насладиться торжеством. Лицо у него серьезное, но глаза поблескивают.
– Ваша Милость, мне жаль, но ваш сын лорд Монтегю мертв.
Я поворачиваюсь к нему лицом, глаза у меня сухие.
– Мне жаль это слышать, – ровным голосом отвечаю я. – По какому обвинению?
– Измена, – легко произносит он. – Ваш сын и его кузены Генри Куртене и Эдвард Невилл предстали перед судом пэров, их судили и признали виновными в измене против короля.
– Они признали свою вину? – спрашиваю я резким голосом, и губы у меня ледяные.
– Их признали виновными, – говорит он, словно это и есть ответ, словно это можно считать ответом. – Король был к ним милосерден.
Я чувствую, как начинает колотиться мое сердце.
– Милосерден?
– Он позволил казнить их на Тауэрском холме, а не в Тайберне.
– Я знаю, что мой сын и его кузены не были виновны в измене нашему возлюбленному королю, – говорю я. – Где жена Генри, леди Куртене, и ее сын Эдвард?
Он на мгновение замирает. Он, глупец, едва не забыл про них.
– Все еще в лондонском Тауэре, – неохотно отвечает он.
– А мой сын Джеффри?
Ему не по душе вопросы. Он взвивается.
– Сударыня, не вам меня допрашивать. Ваш сын – казненный изменник, а вы под подозрением.
– Так и есть, – тут же отвечаю я. – Это вам меня допрашивать, такому умелому. Они все не признали себя виновными, и вы не нашли против них никаких свидетельств. На мне нет вины, и против меня вы свидетельств не найдете. Помогай вам Бог, Уильям Фитцуильям, ведь вы неправы. Допрашивайте меня, как пожелаете, хотя я вам в матери гожусь. Вы обнаружите, что я ничего дурного не сделала, как не сделал ничего дурного мой дорогой сын Монтегю.
Не надо было произносить его имя. Я слышу, как голос мой срывается, и не уверена, что смогу продолжать. Уильям раздувается от гордости при виде моей слабости.
– Не сомневайтесь, я вас еще буду допрашивать, – говорит он.
Держа руки за спиной, так, чтобы он не видел, я щиплю себя за кожу ладони.
– Не сомневайтесь, вы ничего не найдете, – с горечью отвечаю я. – И в конце концов ваш дом обрушится вам на голову, а эта река поднимется против вас, и вы пожалеете о том дне, когда пошли против меня в своей напыщенной глупости, когда взялись уязвить меня смертью того, кто лучше вас, – моего сына Монтегю.