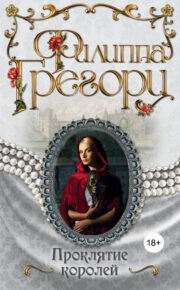Он пожимает плечами.
– Придется, – просто отвечает он. – Король этого требует. Сейчас всем нелегко.
Я удаляюсь рожать, размышляя о том, насколько всем сейчас нелегко, и гадая, как так вышло. Двор Йорков был известен своим богатством и расточительностью, веселье и праздники, охоты, турниры и развлечения не прекращались у них весь год. У меня было десять кузенов королевской крови, и всех их великолепно одевали, содержали и женили. Как так вышло, что та же страна, что осыпала золотом Эдуарда IV и оделяла им огромную семью, не может отыскать денег, чтобы заплатить штрафы и налоги одному человеку – Генриху Тюдору? Как так вышло, что королевской семье, состоящей всего из пяти человек, так не повезло, когда все Плантагенеты и Риверсы с родней горя не знали с куда меньшими средствами?
Муж говорит, что останется в Стоуртоне, пока я рожаю, чтобы поздравить меня, когда я выйду из покоя роженицы. Я, конечно, не могу с ним видеться во время родов, но он шлет мне подбадривающие письма, сообщая, что мы продали немного соломы и что он велел заколоть и засолить свинью для пира по поводу крестин младенца.
Однажды вечером он присылает мне короткую записку.
У меня лихорадка, я отдыхаю в постели. Я велел, чтобы детей ко мне не пускали. Не падайте духом, жена моя.
Я чувствую лишь раздражение. Некому будет проверить, как мажордом собирает плату на Михайлов день, или собрать ученическую плату с молодых людей, которые в эту четверть года начали работать. Лошадей начнут кормить запасенным сеном, и некому будет проследить, чтобы их не перекармливали. Мы не можем себе позволить покупать сено, нужно распределять запас на зиму. Я ничего не могу с этим поделать, разве что проклинать наше невезение, из-за которого я сейчас в родах, а муж заболел. Я знаю, что наш мажордом, Джон Литтл, человек честный, но Михайлов день – важнейшая пора для прибыльного управления землями, а если ни я, ни сэр Ричард не сможем смотреть Джону Литтлу через плечо, проверяя каждую цифру, что он записывает, он точно будет беспечен, а то и хуже, щедр к крестьянам: станет прощать им долги или продлевать неоплаченные договоры.
Два дня спустя, вечером, я получаю еще одну записку от сэра Ричарда.
Стало много хуже, посылаю за врачом. Но дети по воле Божьей здоровы.
Непривычно, что сэр Ричард болеет. Он не раз воевал за Тюдоров, он объезжал ради них три королевства с сопредельными землями, в любую погоду. Я пишу ответ:
Вы больны? Что говорит врач?
Он не отвечает, и на следующее утро я посылаю свою даму, Джейн Маллет, к постельничему мужа, чтобы узнать, что с ним.
Едва она входит в мои покои, я вижу по ее потрясенному лицу, что новости дурные. Я кладу руку на свой округлившийся живот, где моему младенцу тесно, как селедке в бочке. Сквозь натянутую кожу я чувствую каждое движение – и внезапно младенец тоже затихает, словно, как и я, готов выслушать дурные вести.
– Что случилось? – жестким от тревоги голосом спрашиваю я. – Что такое, из-за чего вы так бледны? Говорите, Джейн, вы меня пугаете.
– Хозяин, – просто отвечает она. – Сэр Ричард.
– Да знаю, глупая! Я догадалась! Он очень болен?
Она склоняется в реверансе, словно почтение смягчит удар.
– Он умер, миледи. Умер ночью. Мне так жаль, что именно я вам это говорю… его больше нет. Хозяина больше нет.
Из-за того, что я в родах, все делается только хуже. Священник подходит к дверям и шепчет в щель слова утешения, словно нарушит обет безбрачия, если увидит мое залитое слезами лицо. Врач говорит, что лихорадка сломила силы сэра Ричарда. Ему было сорок шесть, изрядный возраст, но он был силен и деятелен. У него была не потливая горячка, не оспа, не корь, не малярия и не антонов огонь. Доктор так долго перечисляет, чем не была болезнь, что я теряю терпение, говорю, что он может идти, и велю прислать ко мне мажордома; тому я, услышав шепот под дверью, велю сделать все, как подобает, установить гроб с телом сэра Ричарда на ступенях алтаря в Стоуртонской церкви и выставить стражу. Велю звонить в колокол, собрать пожертвования с крестьян, одеть плакальщиков в черное и похоронить сэра Ричарда со всеми подобающими ему почестями – но как можно дешевле.
Потом я пишу королю и его матери, Миледи, сообщая, что их достопочтенный слуга, мой муж, скончался, будучи на их службе. Я не указываю на то, что он оставил меня почти ни с чем, что на руках у меня четверо детей королевской крови, которых надо поднять на гроши, и я жду еще одного ребенка. Миледи мать короля и так это поймет. Она поймет, что они должны мне помочь, немедленно выделить денег, а потом пожаловать еще немного земли, чтобы я могла содержать себя и детей, поскольку у нас теперь не будет платы за работу моего мужа в Уэльсе или на других постах. Я их родственница, я из старого королевского дома, у них нет выбора, кроме как позаботиться о том, чтобы я жила достойно, кормила и одевала детей и домашних.
Я посылаю за двумя старшими детьми, моими мальчиками, мальчиками, которых мне придется растить одной. Урсуле и Реджинальду о том, что их отец ушел на небеса, скажет леди гувернантка. Но Генри двенадцать, а Артуру десять, и они должны от матери узнать, что их отец умер и отныне у нас никого нет, кроме друг друга: нам придется друг другу помогать.
Дети приходят, очень тихие и взволнованные; они оглядывают затененные покои роженицы с суеверной тревогой подрастающих мальчиков. Это всего лишь моя спальня, они были тут сотни раз, но теперь окна завешены гобеленами, чтобы в комнату не проникал свет и сырость, в обоих очагах разведен огонь и завораживающе пахнет травами, которые, говорят, помогают роженицам. У стены под иконой Девы Марии в серебряном окладе горит свеча, в дарохранительнице лежит хлеб причастия. В ногах моей большой кровати с занавесями стоит маленькая, для родов, а к столбам в изножье привязаны зловещие веревки, за которые я буду держаться, когда придет время, лежит кусок дерева, который я буду кусать, и пояс Богоматери, который повяжут мне на талии. Мальчики смотрят на все это круглыми от испуга глазами.
– У меня для вас дурные вести, – ровным голосом говорю я.
Нет смысла пытаться сказать такое помягче. Мы все рождены страдать и сносить утраты. Мои мальчики – сыновья дома, который всегда был щедр на смерть: что принося, что принимая.
Генри смотрит на меня в тревоге.
– Ты больна? – спрашивает он. – С ребенком все хорошо?
– Да. Дурные вести не обо мне.
Артур сразу понимает. Он всегда быстро схватывает и скор на речь.
– Значит, отец, – просто говорит он. – Миледи матушка, отец умер?
– Да. Мне больно вам это говорить, – отвечаю я и беру Генри за холодную руку. – Теперь ты – глава нашей семьи. Старайся хорошо наставлять своих братьев и сестру, береги наше состояние, служи королю и избегай зла.
Его темные глаза наполняются слезами.
– Я не могу, – говорит он пресекающимся голосом. – Я не знаю как.
– Я могу, – отваживается Артур. – Я сумею.
Я качаю головой.
– Нельзя. Ты второй сын, – напоминаю я. – Наследник у нас Генри. Твое дело – помогать ему и поддерживать, защищать его, если придется. А ты, Генри, сможешь все. Я буду помогать тебе советом и наставлением, и мы сумеем умножить богатство и величие нашей семьи – но не слишком.
– Не слишком? – повторяет Артур.
– Величие под властью великого короля, – произносит Генри.
Тем самым показывая, как я и думала, что он достаточно взрослый, чтобы исполнять свой долг, и уже достаточно мудр, чтобы понимать, что мы хотим процветания – но не такого, чтобы нам завидовали.
Лишь после того, как мои мальчики немного поплакали и ушли, я нахожу время опуститься на колени перед распятием, оплакать потерянного мужа и помолиться о его бессмертной душе. Я не сомневаюсь, что он отправится на небеса, хотя нам придется где-то найти деньги, чтобы заказать мессу. Он был хорошим человеком, он был верен Тюдорам как пес и как пес предан мне. Добрый, как часто бывают добры к детям и слугам сильные немногословные мужчины. Я бы никогда не смогла в него влюбиться, но я всегда была ему благодарна и радостно носила его имя. Теперь, когда он умер и я больше никогда его не увижу, я знаю, что мне будет его не хватать. Он был моим утешением и защитой, он был добрым мужем – это редкость.