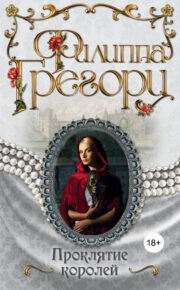Принцесса почти без чувств от боли, она бледна. Ей слишком дурно, чтобы ехать верхом, мне приходится усадить ее в паланкин. Я подкладываю ей под ноги горячий кирпич, второй, завернутый в шелк, кладу ей на колени. Она высовывает ручки из-за занавески, и я вцепляюсь в нее, словно не могу вынести разлуки.
– Я пошлю за вами, как только смогу, – тихо произносит она. – Он не может вас со мной разлучить. Все знают, что мы всегда были вместе.
– Я спросила, можно ли мне с вами, я сказала, что поеду за свой счет, что буду служить вам даром. Я бы оплачивала вашу свиту, чтобы вам служить.
Речь моя бессвязна от тревоги, краем глаза я вижу, как Томас Говард садится в седло. Паланкин качается из-за того, что мулы беспокойно переступают, я еще сильнее сжимаю руки принцессы.
– Я знаю. Но они хотят, чтобы я была одна, как матушка, без единого друга во всем доме.
– Я приеду, – клянусь я. – Я буду вам писать.
– Мне не позволят принимать письма. А я не стану читать ничего, что адресовано мне не как принцессе.
– Я напишу тайно.
Я отчаянно стараюсь, чтобы она не увидела меня в слезах, стараюсь помочь ей сохранить достоинство в этот страшный миг, когда нас отрывают друг от друга.
– Скажите матушке, что со мной все хорошо, что я совсем не боюсь, – говорит она, белая, как занавески паланкина, и трясущаяся от страха. – Скажите, что я всегда помню, что я ее дочь и что она королева Англии. Скажите, что я ее люблю и никогда не предам.
– Едем! – кричит Томас Говард, вставший во главе отряда, и они тут же трогаются.
Паланкин, дрогнув, срывается с места, рука принцессы крепче сжимает мою.
– Возможно, вам придется покориться королю, я не могу знать, что он от вас потребует, – быстро говорю я, переходя рядом с паланкином на рысцу. – Не противьтесь ему. Не гневайте его.
– Я люблю вас, Маргарет! – кричит она. – Благословите меня!
Мои губы шевелятся, но я давлюсь и не могу произнести ни слова.
– Господь благослови, – шепчу я. – Господь благослови тебя, маленькая принцесса, я тебя люблю.
Я отступаю назад и почти валюсь в реверансе, опустив голову, чтобы она не увидела моего искаженного горем лица. Я чувствую, как низко кланяются все ее слуги за моей спиной, и деревенские жители, стоящие вдоль аллеи, пришедшие посмотреть, как принцессу похищают из ее дома, вопреки всем приказам, которые им выкрикивали весь день, стаскивают шапки и падают на колени, чтя единственную принцессу Англии, когда ее везут мимо них.
Я должна бы радоваться тому, что я у себя дома, должна бы наслаждаться отдыхом. Наслаждаться тем, что просыпаюсь вместе с солнцем, льющимся сквозь венецианские стекла моих окон и наполняющим беленую комнату сиянием и светом. Наслаждаться огнем в камине и чистым бельем, сохнущим перед ним. Я богатая женщина, у меня знатное имя и титул, и теперь, когда меня освободили от придворной службы, я могу жить дома, навещать внуков, управлять своими землями и молиться в своем приорате, зная, что мне ничто не грозит.
Я женщина немолодая, мой брат мертв, мой муж умер, моя кузина королева умерла. Я смотрю в зеркало и вижу на своем лице глубокие морщины, а в темных глазах – усталость. Волосы у меня под чепцом поседели, стали серо-белыми, как шерсть старой кобылы в яблоках. Я думаю, что пора меня выпускать пастись, пора мне отдохнуть, и улыбаюсь этой мысли, понимая, что никогда не буду готова к смерти: я из тех, кто выживает, сомневаюсь, что когда-нибудь смогу тихо отвернуться лицом к стене.
Я рада с таким трудом завоеванной безопасности. Томаса Мора обвинили в изменнических разговорах с Элизабет Бартон, и ему пришлось отыскать письмо, в котором он просил ее не говорить, чтобы доказать свою невиновность и остаться дома. Мой друг Джон Фишер не смог себя защитить от обвинения и спит теперь, в сырые весенние дни, в каменной клетушке в Тауэре. Элизабет Бартон и ее друзья в Тауэре, они обречены на смерть.
Я должна бы радоваться, что мне ничто не грозит и я на свободе, но радости я не чувствую: мой друг Джон Фишер лишен и защиты, и свободы, а где-то на холодных равнинах Хантингдоншира живет королева Англии, которой дурно служат люди, поставленные лишь для того, чтобы ее стеречь. А что еще хуже, в Хетфилдском дворце принцесса Мария готовит себе завтрак над огнем в спальне, боясь есть за общим столом, потому что повара Болейнов в кухне кладут отраву в суп.
Она заточена в доме, ей даже не позволяют гулять в саду, ее прячут от гостей, страшась, что они передадут ей письмо или слова утешения, она разлучена с матерью, изгнана с глаз отца. Меня к ней не пускают, хотя я завалила Томаса Кромвеля умоляющими письмами, просила графа Сарри и графа Эссекса поговорить с королем. Никто ничего не может сделать. Я обречена жить в разлуке с принцессой, которую люблю как дочь.
Я мучаюсь чем-то вроде болезни, хотя врачи не могут понять, что со мной не так. Ложусь в постель и обнаруживаю, что снова встать мне трудно. У меня такое чувство, словно меня постигла загадочная болезнь, бледная немочь или падучая. Я так тревожусь за принцессу и за королеву, я не могу помочь ни той, ни другой, и ощущение слабости разрастается во мне, пока я едва не падаю.
Джеффри приезжает навестить меня из своего дома в Лордингтоне, это рядом, и рассказывает, что получил письмо от Реджинальда, который умоляет Папу отлучить Генриха от церкви, как тот и обещал, чтобы народ мог против него восстать, подготавливая императора к моменту, когда тот должен будет вторгнуться.
Джеффри рассказывает, что жена кузена Генри Куртене, Гертруда, так решительно высказалась в поддержку королевы и потребовала справедливости по отношению к принцессе, что король отвел Куртене в сторону и предупредил, что еще одно слово жены будет стоить ему головы. Куртене сказал Джеффри, что сперва посчитал, будто король шутит, – кто же отрубает человеку голову за то, что скажет его жена? – но смеяться было не над чем; и он велел жене молчать. Джеффри это послужило предостережением, он сделал свое дело тайно, тихо и незаметно проехал по холодным грязным дорогам, навестил королеву и доставил ее письмо принцессе.
– Оно не принесло ей радости, – удрученно говорит он мне. – Боюсь, стало только хуже.
– Как это? – спрашиваю я.
Я отдыхаю на кушетке у окна, глядя на свет заходящего солнца. Мне дурно при мысли о том, что Джеффри привез Марии письмо, от которого ей стало хуже.
– Как?
– Потому что оно едва ли не прощальное.
Я приподнимаюсь на локте.
– Прощальное? Королева уезжает?
При мысли об этом у меня кружится голова: может ли статься, что племянник предложил ей убежище за границей? Неужели она оставит Марию в Англии одну, один на один с отцом?
Джеффри бледен от ужаса.
– Нет. Куда хуже. Королева написала, что принцесса не должна спорить с королем и должна повиноваться ему во всем, кроме того, что касается Господа и спасения ее души.
– Так, – с тяжелым сердцем говорю я.
– И еще она написала, что ей самой безразлично, что с ней сделают, потому что она уверена, что встретится с Марией на небесах.
Тут я сажусь.
– И какой вывод ты из этого делаешь?
– Я не видел всего письма. Только это я и услышал от принцессы, пока она его читала. Она прижала его к сердцу, поцеловала подпись и сказала, что матушка укажет ей путь и что она не обманет королеву.
– Королева могла иметь в виду, что ее казнят, и велеть принцессе тоже приготовиться?
Джеффри кивает:
– Она сказала, что не подведет мать.
Я поднимаюсь на ноги, но комната вокруг меня плывет, и я хватаюсь за изголовье кровати. Я должна ехать к Марии. Должна сказать ей, чтобы принесла любую присягу, пошла на любое соглашение, но не должна рисковать жизнью. Единственное, что у нее есть, у этой бесценной девочки Тюдоров, – это ее жизнь. Я не для того пеленала ее новорожденную, не для того несла ее в горностаевом меху с крестин, не для того растила словно дочь, чтобы она отказывалась от жизни. Нет ничего важнее жизни. Она не должна отдавать свою жизнь за ошибки отца. Она не должна за них умирать.
– Ходят слухи о присяге, которую все должны будут принести. Каждому из нас предстоит поклясться на Библии, что первый брак короля был недействительным, а второй добрый и что принцесса Елизавета – единственная наследница короля, а принцесса Мария – бастард.