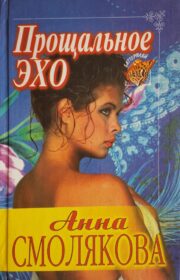— Ксюха, познакомься, это Алка.
Женщина улыбнулась как-то не очень весело и заметила:
— «Алка» от слова «алкоголик»… Помнишь, наверное, Андрюшенька, как мы чуть ли не всем курсом обмывали в общаге удачную сдачу госэкзаменов? — И, уже обращаясь к ней, добавила: — Он тогда повел себя как настоящий джентльмен. Таскал меня, пьяную, по всем этажам, пока не нашел свободную кровать, где я могла бы выспаться. С тех пор только так и зовет: не Алла, не Аллочка, а Алка…
Она выглядела довольно симпатичной и немного грустной. Оксана подумала тогда, что эта женщина наверняка влюблена в ее Андрея. Иначе с чего бы ей смотреть на нее так странно? И еще более странно она смотрела на нее потом, в клинике. Привел же Господь лечь именно туда, где работала эта женщина! И ведь именно она тогда завела тот странный разговор, что теоретически ребенок может остаться жить… И как она проходила потом мимо ее палаты: быстро, дробно стуча каблуками, словно боясь столкнуться и посмотреть ей, Оксане, в глаза!.. Полтора года спасенной девочке, от которой отказались родители. Якобы отказались!
Оксана, все еще сжимая в руках папку, опустилась на пол прямо в прихожей. Она не знала, из чего, из какой крохотной надежды выросла ее уверенность, но тем не менее…
«Моя дочь жива!» — произнесла она по-русски и, уронив лицо в ладони, заплакала.
Когда-то в детстве у нее была юла с блестящими красными и зелеными полосками. Но запускать ее особенно было негде: стол обычно был завален папиными бумагами или на нем стояла мамина швейная машинка, а на полу… Деревянный, зашпаклеванный, но все же со щелями — для юлы он совершенно не годился. «Докрутившись» до очередной впадины между досками, она обычно резко спотыкалась, словно подвернув свою единственную коротенькую ножку, и неуклюже заваливалась на бок. Оксана охладела к юле и довольно скоро забросила ее в «темную комнату» и вдруг, ни с того ни с сего, вспомнила о ней сейчас, глядя сквозь лобовое стекло на вращающиеся колеса «Мерседеса». Утреннее шоссе казалось идеально гладким, словно вылизано языком, и автомобиль Клертона мягко катил по нему с тупой целеустремленностью юлы, которой ничто не мешает.
— Мы не опоздаем? — спросила Оксана только для того, чтобы хоть что-нибудь спросить. Но методичный и основательный Том тут же перевел взгляд на циферблат наручных швейцарских часов в золотом корпусе.
— Нет, регистрация на твой рейс начинается через сорок три минуты, а мы прибудем в аэропорт уже через полчаса.
— Прибудем… Прямо как правительственная делегация! Откуда ты только выкапываешь эти дурацкие чиновничьи выражения? — Она нахмурила свои темные брови ровно настолько, насколько это было безвредно для кожи лица. Лишнее напряжение мышц лба — и возле переносицы залягут сухие и тонкие мимические морщинки. Потом, конечно, можно прибегнуть к специальному массажу, лифтингу, вшиванию «золотых нитей» и еще черт знает каким процедурам, но не лучше ли просто поберечься? Оксана привыкла не то чтобы прислушиваться к негромким сигналам, которые посылал ей собственный организм, она твердо и безошибочно знала, насколько близко можно свести брови, как широко улыбнуться и с какой интенсивностью игриво прищурить глаза, чтобы на свежей золотистой коже не проявилась невесомая паутинка ранней старости. Вот и сейчас она нахмурилась только для того, чтобы добиться хоть какой-нибудь реакции со стороны Тома. Она была просто уверена, что он заметил, как потемнели ее вызывающе-синие глаза, как нервно затрепетали длинные ресницы, слегка утяжеленные бархатной тушью. Заметил, но тем не менее никак не отреагировал. Ее снова охватила неудержимая, клокочущая ярость.
«Флегма, скучная амебоподобная флегма, несчастный пингвин!» — выругалась она про себя, а вслух довольно спокойно произнесла:
— Тебя совсем не волнует то, о чем я говорю? То, о чем я спрашиваю, да?
Том слегка улыбнулся уголками губ. Ее всегда раздражала самоуверенность Клертона, считающего, что ему идет улыбка голливудского супермена. Уж оставался бы просто обычным преуспевающим бизнес-пингвином, достаточно верным, добрым и любящим для того, чтобы ему тоже отвечали привязанностью и лаской. Так нет же! Хоть в мелочах, но пытается изображать из себя сильного мужчину!
— Ты слышишь, что я говорю?
— Да, слышу, — весело откликнулся Том. — Но, дорогая, твой вопрос о том, где я выкапываю эти выражения, я просто посчитал риторическим. Какой ответ ты хотела бы услышать?.. Я выкапываю эти выражения в беседах с сотрудниками моей фирмы? Я выкапываю эти выражения в телевизионных выпусках новостей? Или, может быть, в детских воспоминаниях?
— Все, хватит! — сорвалась на крик Оксана, с непонятной ненавистью глядя на круглые, жирные плечи мужа, упрятанные под белой шелковой рубашкой и светло-бежевым льняным пиджаком. — Хватит! Не нужно было, чтобы ты меня провожал…
Первый приступ тихого раздражения она почувствовала еще вчера вечером, когда сообщила Тому о своем желании слетать в Москву навестить родителей. Слишком уж легко, слишком быстро он согласился. Нет, ей, конечно, и нужен был именно такой ответ: «Да, дорогая… Пожалуйста, дорогая… Когда тебе угодно, дорогая». Но что-то в душе мгновенно взбунтовалось против этой его телячьей покорности. Оксана была далека от мысли о том, что у Клертона может быть подруга, любовница, и, отпуская ее в Россию, он рассчитывает расслабиться в объятиях другой женщины. Наоборот, она и сейчас пребывала в твердой уверенности, что Том будет скучать и тосковать без нее. Но почему он так бессловесно, так смиренно принимает и предстоящую разлуку, и довольно нелепый повод — ни с того ни с сего ей приспичило увидеть маму. Ведь не может же этот совсем неглупый человек вообще ничего не замечать!
— Нам теперь придется отменить запланированную поездку в Италию? — спросила она тогда с последней надеждой на то, что в его водянистых глазках промелькнет хотя бы тень обиды.
— Ничего особенного, — отозвался Том, отправляя в рот вилку с куском ростбифа. — Тебе, наверное, в самом деле лучше слетать в Москву. Отдохнешь, сменишь обстановку…
Оксана с тоскливой обреченностью поняла, что вот так же спокойно он воспримет известие о том, что она привезла удочеренную (якобы удочеренную!) девочку из русского детдома, так же чинно и невозмутимо будет прогуливать малышку по Гайд-парку и набережной Темзы и безмятежно смотреть на мир своими бесцветными глазками наивного обманутого мужа… Она знала, что Клертон не хотел чужого ребенка. Точнее, он согласился бы на чужого, но чужого и для него, и для нее. Он не желал в своем доме живого напоминания о русском Андрее, которого видел всего один раз… «Но тебе все равно не удастся избежать этого!» — подумала Оксана со странной смесью злорадства и стыда. От внезапно накатившей горячей и душной волны стыда ей стало плохо. Так плохо, что захотелось закричать, заплакать, изо всех сил хлопнуть по столу ладошкой. Том, бедный, некрасивый, безобидный Том!.. Он будет и дальше так же преданно смотреть на нее своими маленькими глазками с куцыми ресницами, искренне радоваться тому, что у нее, что у них теперь есть дочь. И даже если девочка окажется слишком откровенно похожей на нее или на Андрея и Клертон обо всем догадается, то никогда не подаст виду, что все понял. Никогда, до конца жизни, не скажет ей ничего обидного и грубого…
Оксана сама не знала, на чем зиждется ее уверенность в том, что спасенная девочка — именно ее дочь. Она просто чувствовала это сердцем, душой, пресловутым биополем матери. Она знала, что это ее девочка, и еще знала, что Клертону все-таки придется с этим жить.
— Да, кстати, кожаную папку в прихожей ты забыл или мистер Норвик? — как можно равнодушнее спросила Оксана напоследок, уже поднимаясь из-за стола.
— Какую папку? — округлил глаза Том. — Я ничего не забывал. А что за папка?
— Коричневая, с позолоченной застежкой.
— Коричневая, с позолоченной застежкой? — Он словно попробовал слова на вкус, продолжая монотонно постукивать вилкой о край фарфоровой тарелки. — Нет, у меня такой не было. Скорее всего это Джеймс… А ты в нее не заглядывала?
— У меня нет привычки рыться в чужих вещах, — нервно бросила Оксана, уже переполняясь тяжелым, гнетущим чувством вины под мелкой рябью бессмысленного раздражения…
…Небо тоже словно бы подернулось рябью. По его равнодушной глади, похожей на отраженное море, поползли неровные маленькие обрывки серых туч. «И опять этот проклятущий дождь, — с привычной тоской подумала она. — Только бы самолет не отменили. Дождь, дождь, дождь и лондонский туман… Изо дня в день одно и то же». Ей вдруг вспомнилась песенка, которую они всем классом разучивали когда-то на уроке сольфеджио: «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой по утру шла…» Они тогда назло скучной учительнице обязательно переставляли «синицу» и «девицу», находя это чрезвычайно смешным. «Девица»-то ладно — ну, жила себе тихо и жила, а вот синица с коромыслом и ведрами — это действительно «вершина юмора»! Сейчас Оксана, как когда-то в детстве, была уверена: тихо живущая за морем одинокая девица — это на самом деле не смешно…