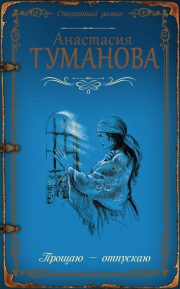Варежки с пирогом пошли по рукам. Партия уже выходила за заставу, когда свёрток приняла красивая цыганка с весёлым и дерзким взглядом. Её красный платок съехал на затылок. В чёрной волне волос уже видны были серебряные нити – но цыганка была стройной и лёгкой, как девочка. На плечи её была наброшена пёстрая линялая шаль. Из-под юбки торчали босые, сизые от холода ноги.
– Кому? Шадриной? От мужа? – она живо обернулась вокруг. – Эй, королевишны мои! Которая тут Устинья Шадрина?
Закованные по рукам и ногам «королевишны» молчали – и цыганка, с недоумением оглядев всю партию, сердито повторила:
– Устинья Шадрина кто будет, спрашиваю? Нешто в пересыльном её позабыли?
– Я Устинья, господи – я… – сдавленным шёпотом отозвалась наконец сероглазая. Она до сих пор всхлипывала, сжимая в руках ковригу белого хлеба. Цыганка протянула ей варежки и изрядно помятый пирог.
– Держи, зарёва, муж тебе кланяется! Да ты что воешь-то? Аль мало подали?
Устинья улыбнулась через силу, принимая подарок, но из глаз её снова побежали слёзы. Цыганка пожала плечами:
– Вот ведь дурная – ей муж пирога шлёт, а она слезами заливается!
– Да не лезь ты к ней, ворона! – в сердцах сказала баба лет сорока, с некрасивым, испорченным вмятинами и рубцами лицом. – Я с этой Устиньей два дня под замком сидела. Она и ржаной-то хлеб раз в году видала! В деревне своей с голодухи лебедой пузо набивала! Вот и сомлела, как ей белого подали… А ты обувайся наконец, дура копчёная! Сил нет на пятки твои синие глядеть!
Цыганка расхохоталась, доставая из заплечной котомки казённые коты.
– И ведь через всю Москву эдак прошла, гусь лапчатый, бр-р! – передёрнула плечами тётка. – Ничего ей не делается, босявке! Вы, цыгане, заговорённые, что ль, от мороза-то?
– Не цыгане, а цыганки! – важно поправила та. И вдруг, запрокинув голову, на всю заставу запела: – А я мороза не бою-ся, на морозе спать ложу-у-ся!
Голос был такой сильный и звонкий, что на песню обернулась вся партия вместе с конвойными: даже Устинья перестала плакать и восхищённо улыбнулась. Но цыганка перестала петь так же внезапно, как и начала, и хвастливо показала сердитой тётке свою раздутую от подаяния торбу:
– Видала, сколь мне накидали за мои ножки босенькие?! То-то же! Знаю небось, что делаю, всю жизнь с людской милости живу! Закон нам такой от Бога дан!
Устинья тем временем аккуратно убрала и хлеб, и пирог за пазуху.
– Да что ж ты не ешь-то, глупая? – пожала плечами цыганка, шагая рядом с ней. – Пирог уж вовсе остыл… Ты жуй, до вечера-то долго идти!
– Не… Я потом… Я лучше оставлю! – почти испуганно отказалась Устинья. – Ведь когда ещё поесть-то придётся…
Конец её фразы утонул в звонком хохоте цыганки.
– У, глупая! – сквозь смех махала она руками. – Ты что ж думаешь, это последний раз?! Ой, ну уморила ж ты меня, изумрудная… Да тебе в каждой деревне столько же дадут! А ежели село богатое, так и втрое накидают! И на этап придём – тоже покормят! Харч хоть казённый, а сыта всяко будешь! Это тебе не у барина в лебеде пастись! Лопай, лопай, не мучься!
Устинья, однако, покосилась с недоверием:
– Да откуда тебе знать? Нешто не впервой идёшь?
– Впервой, как есть впервой, – усмехнулась цыганка. – На пару с мужем иду. Только наше дело кочевое, много чего видала. Где кандальнички прошли, нашей сестре гадалке делать нечего! Как есть пусто по хатам: всё арестантам снесли!
Устинья пожала плечами, но всё же решилась отщипнуть от белой краюшки и бережно положила кусочек в рот. Цыганка перестала улыбаться, посмотрев на неё с искренним сожалением:
– Откуда будешь-то, милая?
– Смоленской губернии.
– Батюшки! И я оттуда! – всплеснула руками цыганка. – Это надо ж – мы землячки, выходит! Что – не веришь?! Я, покуда за своего разбойника замуж не вышла, с отцовским табором по Смоленщине ездила! Вдоль и поперёк мы твою губернию искочевали! Катькой меня звать!
– А скажи, тётка Катя… – осторожно начала Устинья, но цыганка снова перебила её смехом:
– Какая тётка? Просто Катькой зови! Тебе годов-то сколько? Двадцать есть? Ну, я в матери тебе не гожусь ещё!
Шли целый день под низким серым небом, под сухой снежной крошкой: март выдался холодным. Бабы с девками ругали кандалы, которые стёрли им ноги в кровь. Все страшно устали уже к середине пути, и начальство разрешило привал. У дороги запалили костры. Арестанты столпились возле них, обогревая замёрзшие руки. Среди мужской партии образовалось кольцо, в середине которого неторопливо вещал Кержак:
– В нашем деле арестантском артель – перво-наперво! Артели легче и с начальством договариваться, и промеж себя дела решать. Опять же, майдан общий у старосты держится. Я пятый раз на каторгу иду, и ни разу без артели не обходилось. Сами видите, как в Москве живо дело обладилось! И нам с барышом, и начальству доходно! Кто до Сибири уж хаживал, тот знает!
Несколько человек солидными кивками подтвердили его речь.
– А в старосты тебя, что ль? – с недоверчивой насмешкой спросил Ефим.
Кержак в ответ сощурился ещё ехиднее:
– На што меня? Становись ты, коль хошь! Сам с ундером порешаешь, сам ему своей спиной и отвечать станешь, коли непорядок какой, аль сбегит кто…
– Нашёл дурня-то! – отмахнулся Ефим. – Ведь, поди, через одного бегают! Отвечай за них, дьяволов, да ещё…
Закончить он не успел: бывалые бродяги заржали так, что на них сердито обернулся конвойный казак:
– Чего загоготали-то, черти? И мороз ить не берёт!
– Ничего, служба, не завидуй! – отмахнулся Кержак и, отсмеявшись, пояснил: – С этапа, парень, не бегают.
– Это отчего ж? – хмыкнул Ефим. – Коли я захочу – нешто меня вот эти, с кремнёвками, догонят?
– Может, и не догонят, – серьёзно ответил Кержак. – Только сам гляди: ты сбежишь – вся партия по твоей милости далее на одной цепи вереницей пойдёт. Аж до Сибири. Никакой поблажки от начальства уж не жди. Мимо деревень в обход поведут: враз живот к спине прилипнет. Да мало ль притеснениев начальство сделать может, коли его разозлить хорошенько!
Ефим подумал, переглянулся с братом. Неуверенно кивнул.
– Согласен?.. А теперь дальше смекай. Положим вот, подорвал ты. Положим, не свезло, и взяли тебя через неделю-другую. Часто этак бывает. И в ту же партию возвернули. А люди уже вдосталь намучились из-за тебя-то! Понимай теперь, что с тобой на первом же растахе сделают! Тут и сила твоя не поможет, коли тридцать одного метелят!
Ефим невольно передёрнул плечами.
– Всё правильно, дядя Кержак, – спокойно подал голос из-за его плеча Антип. – Коль артель – значит, артель, мы согласны. По скольку с носа-то требуется?
– По три серебром прежде полагалось. И вы мне, ребята, верьте: внакладе не будем, – пообещал Кержак. – Артель – это и арестанту, и начальству выгодно. Главное – договориться уметь! Они ж тоже не звери, не первый год нашего брата в Сибирь гоняют… Тоже понимают, сколь от нас вреда быть может, ежели несправедливое учуем. Наш брат кандальник на пакости-то гораздый, никого учить не надо! Помню, раз охвицер на этапе в баню нам не дозволил… Пятьдесят, вишь, рублей за то просил. А с какой же радости платить, коли нам баню по положениям устроить обязаны? Ну, мы для виду смирились… А как в поле отошли вёрст на десять – сейчас вся партия посредь дороги улеглась и идти напрочь отказалась! Даже бабы с дитями! Охвицер бегает, орёт. Солдаты кремнёвки наставили – и чего? Всё едино не выстрелят, потому арестант – человек казённый и в него просто так тоже палить нельзя. Мы лежим не встаём, в небушко поплёвываем! Часу не пролежали, а уж охвицер сам согласился нам червонец дать, лишь бы мы поднялись и далее тронулись… У него ж – время, он нас по списку сдать на этапе должон, за задержку с него спросится! Так что ежели справедливость блюсти, то завсегда поладить можно. А какие деньги на этапе наваривают – сами в Москве видели! Кто на водку да на баб в пути не спустит – в Сибирь миллионщиком придёт!
– Больно они надобны в Сибири – миллионы-то… – проворчал Ефим, глядя на то, как в шапке Кержака исчезают их с Антипом шесть рублей. – Подтереться мне этим миллионом в руднике-то под каменюкой?
Но Кержак только пожал сутулыми плечами и усмехнулся:
– Бог не выдаст, парень. И в рудниках люди живут. Николи не знаешь, как твоя доля повернётся. Не серди Бога да начальство и живи весело.
– Вот и гляжу – довеселились уж… – сквозь зубы процедил Ефим, глядя на мелькающие в стылом воздухе снежные хлопья. На сердце у него было тяжело.