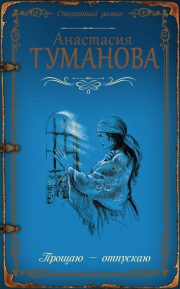– Глупости, Михайла Николаич… – Устинья, прислонившись к столбу крыльца и слабо улыбаясь, вытирала краем передника слёзы. – Кабы у нас таковых Прохоровых на селе не было – ни в жизнь бы я не додумалась, что с дитём делается! Да ещё кабы у меня того корешка не оказалось… Ведь и впрямь – золотой оказался! Только я одного боюсь – как бы всё назад не вернулось, когда корешок-то у меня кончится! И так меньше половины осталось! Да ещё самый большой-то на Яшку извела!
– Думаю, рецидива не будет, – подумав, медленно сказал Иверзнев. – Ты оказалась, опять же, права – у болезни мальчика были нервные корни. Я, дурак, даже не подумал об этом. Да ещё эти твои сказки по вечерам… Вообще, я думаю, стоит ввести такую методику – вылечивание нервной системы путём рассказывания интересных историй! Действует и на старых каторжан, и на маленьких мальчиков! Ты обратила внимание, какая тишина теперь по вечерам в лазарете? Всего две драки и одна поножовщина за целый месяц! Да здесь такого со времён Акинфия Демидова, верно, не было!
– Вот вам смехи всё!
– Я и не думаю смеяться, Устя. Ты чудо, – просто сказал Михаил, и, как всегда, Устинья смешалась под взглядом этих чёрных внимательных глаз. Пробормотав: «Горшок-то, вот ведь дура, без пригляду бросила…» – она шагнула было в сени, но Михаил удержал её.
– Ещё минуточку, Устя. Скажи, Ефим… Вы так и не…
– Ефим Прокопьич глину добывать ушли, – улыбка тут же сошла с лица Устиньи. – С артелью ушли вторую неделю как.
– Но он так и не поговорил с тобой?
– Для ча слова зря тратить? – пожала плечами Устинья, но губы её болезненно сжались, образовав две морщинки по углам рта. Эти морщинки страшно старили её, и Михаил с острой горечью смотрел на них. «Господи, какой же сукин сын… И как нечестно, несправедливо это всё!»
– Устя! Устька! Дэвлалэ, Устька!
– Катька! – Михаил вздрогнул, очнувшись от своих мыслей, и с неприязнью посмотрел на цыганку, которая ворвалась на больничный двор с вытаращенными глазами и сбившимся на шею платком. – Что ты носишься как ошпаренная? Ты же только что полы скоблила? Куда уже успела слетать? Что ещё стряслось?
– Дэвла… Устька… Ты только, ради бога, не волнуйся… – пролепетала, задыхаясь от бега, Катька. На Иверзнева она даже не взглянула. Её огромные, испуганные глазищи в упор смотрели на подругу. – Ты только, пожалуйста, не беспокойся…
– Богородица пречистая! – Устя сбежала с крыльца и схватила цыганку за руки. – Что? Что, Катька? Ефим? Жив он?!
– Да что ему сделается, варнаку! – с ненавистью выпалила Катька. – В бега ушёл! Нынче утром! От ям казак прискакал! Двое утекли – Берёза и Ефим твой! Да ещё говорят…
Закончить Катька не смогла: Устинья вдруг, ухватившись за перила крыльца, покачнулась. И, сморщившись от внезапной резкой боли, согнулась пополам. Иверзнев едва успел подхватить её.
– Господи, Устя! Что с тобой?..
– Не знаю… Ой… Михайла Николаевич, пустите меня… Катьку… Катька, ой… Ой, да поди сюда! А вы, Михайла Николаевич, уйдите, за-ради Христа…
– Устя, ради бога, я врач!
– Не мужское это… – Устинья из последних сил держалась на ногах, цепляясь за перила. – Ка-атька-а-а…
Но цыганка уже поняла, в чём дело. Взлетев по ступенькам крыльца, она подхватила подругу и стремительно увлекла в лазарет, на ходу бросив Иверзневу:
– Барин, не ходите, обождите! Убью, если влезете!
– Ч-чёрт знает что! – выругался Иверзнев, неловко опускаясь на крыльцо и доставая папиросы. Пальцы у него дрожали, и, когда четвёртая папироса, нераскуренная, искрошилась в труху ему под ноги, Михаил оставил попытку закурить. Глубоко вздохнул, переводя дыхание, и вполголоса, яростно пробормотал: – Господи, ну что же он за скотина!..
– Так ты что ж, не знала ничего? – недоверчиво спросила Катька час спустя, отмывая под рукомойником красные от крови руки. Устинья, лежавшая на лавке, молча покачала головой. Она не плакала больше, но мокрые дорожки на её щеках ещё не просохли. – Тьфу, дура! – выругалась цыганка. – А ещё мужняя жена!
– И что с того, что мужняя? Это у тебя четверо, ты всё знаешь… А я-то – впервой… И… Вот что вышло…
– Да разве ты не чуяла ничего?! Голова не кружилась? Не мутило, по утрам особливо? Соли полизать середь ночи не тянуло?
– Было… Всяко было… Только… Я ж думала, с устатку это всё да с беготни…
– У-у-у, ду-у-ура! – тихо завыла Катька, хватаясь за голову. – А ещё знахарка! Три месяца тяжёлой проходить – и самой не дознаться! Устька, вот ей-богу, не врёшь ли ты, а?
Устинья, не отвечая, снова тихо заплакала. Катька, наморщив смуглый лоб, с горечью смотрела на неё.
– Ну да ничего. Не вой, – с нарочитой бодростью сказала она, садясь рядом с подругой. – По первости всякое бывает. Какие твои годы! Вы со своим Ефимом ещё полные углы накидаете… – тут цыганка осеклась, но поздно: Устинья разрыдалась так, что в дверь встревоженно заглянул Иверзнев.
– Катька, ну можно мне, наконец? Что тут такое?
– Скинула она, барин, – хмуро сказала Катька, наспех подхватывая с пола окровавленные тряпки и выливая в ведро розовую воду из лохани. – Дело обычное. Бабье, житейское.
– Да… Да что же здесь обычного?! – вскипел Иверзнев, кидаясь к Устинье. – Что тут житейского?! Право, твоего Ефима повесить мало!
– Да что вы кричите, он и не знал ничего, – тяжёлым от слёз голосом сказала Устинья, утыкаясь в угол подушки. – Господи… Да что же он, идол, сделал… Да на что?!. Катька, милая, побежи ещё! Узнай, что говорят! Ты умеешь, ты из человека душу вытрясешь, ежели надо! Может, врут, может, другой кто?! Не Ефим?! Перепутало, может, начальство что-то, господи…
– Сейчас сбегаю! Сейчас, золотенькая! А ты лежи, не вставай! Доктор, миленький, последите за ней! – Катьку снесло за порог.
Устинья снова спрятала лицо в подушку. Иверзнев, стоя рядом, с беспокойством наблюдал за ней. Прошла минута, другая.
– Вот ведь дура я… Вот ведь безголовая… – наконец с трудом глухо выговорила она. – Ведь знала… Знала, что он с дури да со злости такое может выкинуть, что Бог на небе ахнет! Всю жизнь, всегда таким был! И вот вам… Господи, да что ж это, да за что же… И что же я за ду-у-у-ура, угодники святые…
– Ради бога, Устя, при чём тут ты? – тихо спросил Иверзнев.
– Да как же?.. Да нешто нет?! Кабы я тогда послушалась… Да ушла с вашей больницы-то… Как он хотел… – рыдания мешали Устинье говорить. После каждой фразы ей приходилось делать глубокий вздох. – Ефим ведь – муж, слушаться надо было… а я… Господи, да нешто ему поперёк можно было?! Он тятьку родного не слушал, а тут – я… баба… жёнка… Ой, да что же это вышло, что ж я сделала…
– Устинья, не смей! – вдруг жёстко приказал Иверзнев. – Ты сама не понимаешь, что говоришь!
От неожиданности Устинья оторвала лицо от подушки и умолкла, глядя на Михаила мокрыми испуганными глазами.
– Да не понимаешь! Не смыслишь! А твой дурак Ефим не понимает тем более! Ну, подумай, вообрази, что бы стало, если б ты его послушала! Кто бы лечил Алёшу Брагина? Я?! Мальчик умер бы от остановки сердца, и я не смог бы помочь! И иркутские врачи тоже! А пожар?! Вспомни пожар! Яшку, других! Вспомни эту мазь от ожогов, которую ты варила здесь! Вспомни женьшень! Скольких людей ты спасла за эту зиму?! Что с ними бы сталось без тебя?! Неужели блажь твоего разбойника важнее всего этого?! Ты же умная, ты должна понять!
– Не кричите, Михайла Николаевич, люди услышат… – тихо, устало сказала Устинья, вновь опускаясь на лавку. – Правы вы, верно. Только вот… Беда-то вышла. И не поправить.
– Может, и к лучшему! – отрезал Михаил, отворачиваясь к стене. – Он не стоил пальца на твоей ноге. И я это говорю не потому, что… Любой, кто знает тебя и его, подтвердит мои слова!
– Не надо, Михайла Николаевич, – помолчав, вздохнула Устинья. – Неправда это. И никто лучше меня про то не знает.
– Ты просто любишь его!
– Люблю. И в чём тут грех-то? – грустно улыбнулась она. – И всегда любила. А он… Вы ведь вот не знаете, а Ефим меня дважды от верной погибели спас. Один раз – когда бабы наши болотеевские меня чуть не разорвали… Ведьмой, вишь, я у них оказалась. Вы-то хоть раз бабью драку видали? Да ещё когда пятнадцать на одну? От меня бы только лоскутки кровяные остались, кабы не Ефим с братом тогда… А другой раз – когда Упыриха насмерть засечь велела. И опять, ежели б не Ефим… Он ведь из-за меня смертный грех на душу принял, Михайла Николаич! Кабы не я – жил бы спокойно при тятьке, землю пахал да хлеб сеял. Женился бы на девке справной, взял бы хозяйку в дом, работницу… Сам работал бы и счастлив был. А он… С игошей болотной связался, которая его до каторги довела. И где он теперь? И что с ним станется, Господи?!.