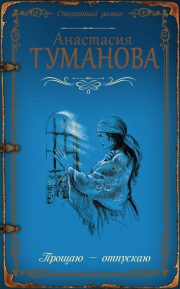– Устя, давно хотел узнать… Кто такая игоша? – глядя в сторону, спросил Иверзнев.
– Кикиморино дитё. Разноглазое, – не сразу ответила Устинья. – Ефим завсегда дивился, как вот это у меня глаза иногда разного цвета делаются… А я и сама не знаю. Теперь и спрашивать некому… – Она снова заплакала. – Михайла Николаевич… А ну как споймают их? Тогда-то что?!
– Ничего хорошего, ты это и сама знаешь, – хмуро отозвался Иверзнев. – Выдерут, прибавят срок.
Устинья резко села. Тут же сморщилась от боли, но, превозмогая себя, начала тяжело подниматься на ноги.
– Господи! Михайла Николаевич! Так ведь это… Мне бежать надо! Я… – она не договорила.
Открылась дверь, и в горницу шагнул, брякнув цепью на ногах, Антип Силин.
– Антип Прокопьич! – простонала Устинья, снова падая на лавку. – Антип Прокопьи-и-ич… Господи, пришла беда-а…
– Прости меня, Устя Даниловна, – хрипло сказал Антип, опускаясь на колени рядом с лавкой и обнимая Устинью за плечи. – Прости. Не доследил. Должен был – а вот не сумел. С тобой-то, свят господи… С тобой-то что тут?! Пошто лежишь? Ваша милость! – он резко повернулся к доктору. – Что с Устькой нашей?!
– Выкидыш, благоволите получить, – глядя в стену, сказал Иверзнев. – На четвёртом месяце.
Антип изменился в лице так, что Устинья ахнула и вцепилась в его плечо:
– Антип Прокопьич! Господь с тобой! Ефимка и знать ничего не знал, спасением души клянусь! Вот хоть на образе забожусь тебе! – Она несколько раз перекрестилась, испуганно глядя в окаменевшее, незнакомое лицо Антипа. – Ну что ты, право слово?! Кто ж повинен-то?!
– Кто повинен, спрашиваешь? – спокойным, тихим голосом спросил Антип. – Ну, Ефим… Ну, морда варнацкая… Пусть только явится назад! Право слово, возьму грех на душу! А то пошто ж, в самом деле, задаром-то на каторге гнить?! Теперь хоть за стоящее дело окажется… У-у, пусть только, сукин сын, назад воротится!
– Антип Прокопьич, ты что говоришь-то? – Устинья схватилась за голову. – Отколь он воротится, когда он в бега ушёл!
– А куда он денется-то? Воротится! – сквозь зубы заверил Антип. – Ещё как назад придёт, как только дурь из башки высвистится! Устя Даниловна, ты ведь за ним третий год всего замужем! А я его всю жизнь наблюдаю, с самой люльки! Далеко не уйдёт. И плевать я хотел, знал он там аль не знал… Прости меня, Устя Даниловна, грешен… Раньше надо было его в разум вгонять. Глядишь, и беды б не случилось.
Устинья упала головой на его плечо и зарыдала в голос, как по мёртвому. Иверзнев, бледный, стиснув зубы до желваков на скулах, стоял, отвернувшись к стене. За дверью маячила фигура караульного солдата, сочувственно качающего головой. Из-под руки у него выглядывала Катька. Она строила отчаянные гримасы Антипу, но тот, не глядя на цыганку, продолжал осторожно прижимать к себе Устинью.
В сумерках в кабинет Брагина постучали.
– Кто там? – недовольно просил начальник завода. – Ты, Хасбулат? Чего тебе?
Черкес вошёл, как всегда неслышно, прикрыл за собой дверь.
– Урус баба просытся, который Алёшу лечил. И ещё два с ним.
– Устинья? И с ней двое? Что это за делегация на ночь глядя?
– Доктор, – с готовностью пояснил Хасбулат. – И Устинья брат.
– Чего?.. Какой ещё брат? Впрочем, зови.
Черкес ушёл. Через минуту он вернулся снова, конвоируя Иверзнева, Устинью и Антипа Силина.
– Афанасий Егорович, прошу нас извинить, – не поздоровавшись, начал Иверзнев. – Но дело не терпит отлагательства, поскольку…
Закончить ему не дали: Устинья повалилась Брагину в ноги и завыла. Антип, подумав, тоже спокойно и не спеша опустился на колени рядом с ней.
– Вот я так и знал… – пробормотал Иверзнев, пожимая плечами.
– Устинья, это что ещё такое? – сердито спросил Брагин, поднимаясь из-за стола. – Силин, встань сейчас же, тебя ещё не хватало! Что это за кувырканья? Извольте подняться и объяснитесь, в чём дело!
– В чём дело, вы и сами знаете. – Антип поднялся с облегчённым вздохом, словно выполнив неприятный, но нужный ритуал. – Ефим-то наш штуку отколол… Устя Даниловна, будет голосить-то, обещала ведь!
Брагин молчал, продолжая вопросительно смотреть на Антипа.
– Устинья, вставай! Барин велит! – Антип протянул руку, и Устя, цепляясь за неё, поднялась. Наспех вытерев слёзы, заговорила:
– Барин, вы простите смелость мою… Я всё, как есть, понимаю… Вы – начальство, а Ефимка виноват… Только ради Христа… Бумага-то на него уже писана?
– Какая бумага? – недоумевающе переспросил Брагин, через голову Устиньи глядя на Иверзнева.
– Я объяснял им, что вы обязаны отметить в документах Ефима Силина как беглого и объявить розыск, – сумрачно пояснил тот.
При этих словах Устинья снова заплакала. Брагин, нахмурившись, вышел из-за стола и начал ходить по кабинету.
– Послушай, Устинья… – наконец, медленно подбирая слова, начал он. – Господин Иверзнев прав. Твой муж бежал, и существует определённый порядок в отношении беглых каторжан… Не в моих силах его изменить, и надо мной тоже есть начальство. Я понимаю, что Ефим тебе муж, но… Есть закон.
– Я всё, как есть, понимаю, барин, – повторила Устинья. Было видно, что она изо всех сил старается справиться со слезами. Последняя капля сбежала по её щеке, и Устя торопливо смахнула её рукавом. – Боже упаси меня вас просить… Вы здесь людям такое облегченье даёте, весь завод на вас молится, нешто я смогу… Чтоб у вас неприятности были… Николи, вот вам крест святой!
– Чего же ты хочешь в таком случае? – немного растерявшись, спросил Брагин.
– Христом-богом прошу… Ежель можно… Не пишите его беглым, воротится он!
Брагин даже не сразу нашёлся, что сказать, и не сумел справиться с невольной улыбкой. К счастью, Устинья не заметила этого: силы оставили её, и она, зажав рукой рот, чтобы не разрыдаться вновь, почти повисла на Антипе. Тот подхватил её, прижав к себе. Через плечо всхлипывающей женщины спокойно обратился к Брагину:
– Барин, дозвольте и мне сказать. Ефимка – брат мне, я его лучше всех знаю. Истинно вам говорю – у него дальше дури дело не идёт! Вот чтоб мне света божьего не увидеть, ежели он уже не пожалел, что с Берёзой связался! Атаман этот, будь он проклят…
– Так вы знали, кто он? – с интересом спросил Брагин.
Антип молча кивнул.
– Вот как… Но тогда ты должен понимать, что я не могу оставить это дело без внимания. Вы, оказывается, знали, а я вот узнал лишь два дня назад. Атаман Берёза – очень опасный человек. Убийство для него – пустяк, и у него за плечами их немало. Прошлым летом он бежал с зерентуйского рудника, зарезав двух солдат. А после, уже в деревне, прикончил целую семью, когда его отказались впустить в хату на ночлег. И с этого винокуренного завода он бегал лет десять назад, ещё не при мне.
– О-о-ох… – простонала Устинья.
Антип покачал головой, нахмурился. Вздохнул.
– Барин, я ж ему говорил… Ефимке-то… Да, видать, плохо говорил, моя вина.
– С завода Берёза бежал потому, что на него уже пришли бумаги с Зерентуя, – медленно выговорил Брагин. – Со дня на день я должен был отправить его обратно на рудник, где ему пришлось бы очень тяжело. Наш атаман об этом, видимо, узнал и предпочёл вовремя исчезнуть. Так что Берёзу можно понять… А вот Силина я, хоть убейте, не понимаю.
– Да на кой же мой Ефим ему сдался… Берёзе-то?!. – почти вскричала, вскидываясь в руках Антипа, Устинья. – Коль этот атаман изверг такой, убивец… На что ему Ефим понадобился?!
– Устинья, не мне тебе напоминать, почему Ефим здесь, – помолчав, почти нехотя заметил Брагин. – Ты же знаешь, однажды он уже сделал это…
– Так ведь и про меня в бумагах то же самое написано, – сквозь слёзы криво усмехнулась Устинья. – И про Антипа Прокопьича. А нешто это правда?
– Ты хочешь сказать, что Ефим невиновен?..
– Не хочу. Всё так и есть, убивал он. Только он меня спасал… И подружку мою… И других людей, которые уже в петлю лезть готовы были. Мой Ефим святое дело сделал, за то и пострадал… И мы с ним вместе, потому я ему жена, а Антип Прокопьич – брат… И не знаю я, не пойму, зачем он… Для чего… Не разбойник он, Ефим, не кромешник! Он опамятуется, вот вам крест, воротится! Поверьте, барин, на образе поклянусь, коли нужно!
– Права Устя Даниловна, – подтвердил и Антип. – И я голову положу, что вернётся. На нём боле трёх дён дурь не держится. Вот самое большое – пять!
Брагин молча барабанил пальцами по краю стола, хмурился. Устинья, в очередной раз вытерев слёзы, умоляюще смотрела на него. За окном уже было темным-темно.