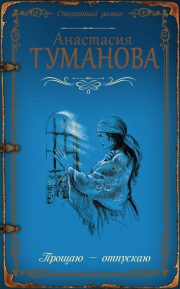Ефим молчал, уткнувшись взглядом в тёмный щелястый пол. Голову волнами обдавало жаром, нечем было дышать, и он даже не сразу услышал вопрос Брагина.
– Ты меня слышишь или нет?
– Что, барин?..
– Спрашиваю – кто тебя ножом ткнул?
– Никто. Росомаха это, говорил же…
– Силин, ты давай не ври, – ровным голосом посоветовал начальник завода. – Я ведь тебе уже сказал: пойдёшь в лазарет, а потом – на работу. И ничего тебе не будет… Хотя морду набить, безусловно, следовало бы. Ну, да это уж пусть Антип трудится. Так что отвечай как есть. Нарвался на кого-то в тайге? И куда, кстати, ты дел Берёзу?
– Разошлись мы с ним. Не поладили.
– Угу… Ножом-то он тебя достал?
Ефим молчал. Молчал и Брагин. Затем, в упор глядя на парня, негромко сказал:
– Берёзу твоего нашли на дороге в полуверсте от хутора Раздельного.
– Повязали?
– Нет. Мёртвым нашли. Между прочим, без единой царапины. Вдова Трифона Дронова его опознала: с её мужем когда-то у Берёзы были дела. Тебе ведь знаком Трифон Дронов?
– Ведать не ведаю…
– Право?.. Ну, уж не познакомитесь, он пять дней как покойник. Его баба нам сказала, что Берёза с подельником ворвался к ней в дом среди ночи и убил её мужа. И вырезал бы всю семью, если бы не его товарищ. Второго варнака, кстати, вдова не признала. Говорит – в жизни не видела, а с перепугу и впотьмах не запомнила. Узнать, говорит, не сумеет ни за что. Только по голосу поняла, что ещё молодой. Божится, что если бы не этот мужик, – страшной силищи, между прочим, – Берёза порешил бы их всех вместе с малыми детьми… Как ты не побоялся с ним сцепиться, Силин? Это ведь зверь настоящий, не росомаха твоя…
Ефим упрямо молчал, опустив голову к коленям и молясь лишь об одном: чтобы начальник не заметил, что его трясёт с головы до ног. Брагин как ни в чём не бывало продолжил:
– Вдова сказала, что у тебя никакого ножа не было, ты бил просто кулаком. Это так?
– Ей лучше знать…
– Думаю, что от этого твоего удара Берёза и умер. Хотя и успел на полверсты отойти от хутора. Да-а, Силин… – Брагин покачал головой. – Воистину – сила есть, ума не надо!
– Может, то не я был, барин? – осторожно предположил Ефим.
– Может, и не ты, – безмятежно согласился тот. – Узнавать тебя некому. А по Берёзе никто не заплачет, пропащий был человек и сволочь страшная. Куда тебя только с ним понесло? И за каким чёртом?
Ефим молчал. Молчал и Брагин. Тихо тикали часы на стене, поскрипывал за печью сверчок. Огонёк оплывшей свечи в лампе бился и мигал, грозя погаснуть. Наконец начальник завода встал.
– Вот что, Силин, пора и честь знать. Ночь-полночь, а у меня и кроме тебя дела есть. В лазарет идти, верно, уж поздно, ложись вон в сенях. Хасбулат за тобой приглядит. А утром доставим тебя к Иверзневу.
Ефим встал. Покачнувшись, удержался рукой за стену. Хрипло, не поднимая взгляда, сказал:
– Спасибо, Афанасий Егорьич.
– Благодарить ты должен не меня, – с досадой отозвался Брагин. Подойдя вплотную к Ефиму, ещё раз осмотрел парня с ног до головы, поморщился. Коснулся ладонью его лба.
– Да ты горишь, как печка. Что тебе тут доктор велел выпить? Давай, хлопни одним духом! И поди ложись. Если будет худо, буди Хасбулата.
– Не беспокойтесь. Мне бы лечь только…
Падая на пол в тёмных сенях (черкес, сердито ворча, едва успел подсунуть ему подушку), Ефим успел подумать только о том, что нипочём теперь не заснёт. И – провалился мгновенно, как умер.
Наутро Ефима Силина нашли в сенях без сознания, в страшном жару, и Хасбулат на себе отволок его в лазарет. Два дня Ефим прометался в горячке, вспоминая то Устинью, то атамана Берёзу, то мать, то Антипа, страшными словами ругал росомаху, искал выворотень на болоте под горелой сосной… На третий день жар упал, и Ефим заснул – весь в поту, бледный до синевы, осунувшийся, но спокойный.
Он очнулся утром четвёртого дня от рассветного луча, упавшего на лицо. Осторожно приподнял голову. Огляделся, ещё не понимая, где находится. Вокруг – бревенчатые стены, нары, серые казённые одеяла, храпящие горки под ними. В открытое окно сквозь решётку лезли лапы можжевельника в молодых зелёных «хвостиках». Рядом белела печь – вся исчерканная какими-то чёрными узорами. Ефим присмотрелся – и с удивлением увидел, что это буквы и слова, криво написанные углём. «Баба… воду… несла… Корова сено ест… Устинья – игоша болотная…» За печью что-то чуть слышно копошилось.
«Больничка… – подумал Ефим, блаженно поворачиваясь на жёсткой подушке и закрывая глаза. Осторожно шевельнул плечом. Оно тут же отозвалось болью – но это была уже не та раскалённая стрела, что пронизывала всё тело насквозь. – Подживает, зараза… Опять всё, как на кобеле, заросло…»
Тихо скрипнула дверь. Вошла с ведром воды высокая баба в белом платке. Она аккуратно поставила ведро у печи, повернулась. На Ефима с чудовищно исхудалого лица взглянули серые глаза – и он вздрогнул, оттого что не сразу узнал жену.
– Устя… – шёпотом позвал он.
Она кивнула. Оглядевшись по сторонам, подошла на цыпочках и села на край нар у него в изголовье. Протянула было руку – и не коснулась.
– Устька… Ну, что ты?.. – испугался Ефим. – Устька… Ну… Вот он я…
Она не ответила. Заплакала – тихо, зажав ладонью рот, низко опустив голову. Ни звука не было слышно в спящем лазарете, только плечи Устиньи тряслись всё сильней. Ефим молчал, не зная, куда деться от этих всхлипов, каждый из которых словно кусок кожи сдирал с сердца.
– Устька, не вой…
– За… мол… чи, не… христь… Лю… ди… спят…
– Что ж ты не говорила мне ничего? Кабы я знал, что ты брюхатая была… Пошто молчала-то, дура? Я бы шагу с завода не…
– А что… тебе… говорить… Всё едино… совести… нет… Что было говорить, когда ты как раз… с той Жанеткой… Много чести было – за собственным мужем бегать… Ну, вспомни, вспомни, как я к тебе в острог пришла! Как потаскуха распоследняя… Пятак караульному совала, чтоб допустил! А ты что? А ты, идолище, что?!
– Устька, спал, ей-богу… – зажмурившись, пробормотал Ефим. – Вот тебе крест святой – спал…
– Божится ещё, аспид! – всплеснула руками Устинья. – Под крестом – врёт! Христа-то побойся, и не стыдно тебе?!
Ефиму было так стыдно, что до смерти хотелось ухнуться сквозь щелястый пол вместе с нарами. Хоть в подвал, хоть в преисподнюю – куда угодно от этих Устькиных слёз… Но нары стояли крепко, и деваться было некуда. Неловко повернувшись, Ефим уткнулся в горячую, мокрую руку жены.
– Устька, не реви… Спасу нет слушать…
– Ох, замолчи… Людей побудишь… Ну вот что мне с тобой делать, ирод, скажи – что?!
– Да что хочешь делай… Возьми вон, вдарь чем-нибудь потяжельше…
– Да куда тебя ещё бить-то?! И так живого места нет! Барина благодари, что кнута не огрёб! Аль мало драли тебя… Ой!!! – Устинья вдруг задохнулась от возмущения. – Да что ж это ты делаешь, сила нечистая?! Вздумал ишь чего! Что же ты, бессовестный, творишь, люди же кругом! Кыш немедля!
Какое там… Лохматая, грязная голова мужа уже лежала на её коленях. Устинья растерянно осмотрелась. Вокруг все по-прежнему спали мёртвым сном.
– У-у-устька… Ну вот провалиться мне, не буду больше… Ей-богу, не буду… Прости, Христа ради… Я тебе что – не муж, что ли?
– Батюшки, – вспомнил наконец! Снизошло ему откровенье небесное! Хуже дитяти малого… Не будет он… Да будешь ведь!!! – снова взвилась Устинья, не замечая того, что уже гладит мужа по голове и он блаженно замирает под её рукой. – Ещё как будешь! Ещё сколько будешь! До гробовой доски мне продыху не дашь, ирод! Потому все люди как люди, а у меня – кромешник с большака… Ой, Ефим, господи, Ефим, тоска моя… – всхлипнув, она умолкла. И не говорила больше ни слова. Вокруг царила сонная тишина. За окном бестолково орал петух, пылинки плясали в полосе света, а по полу скакали солнечные зайцы. Сквозь слёзы глядя на их пляску, Устинья шёпотом сказала:
– Будет уж, леший… Ну, всё, всё, Ефим, пусти… Идти мне надо.
– Усть, не могу я так, – он упрямо не поднимал головы с колен жены и не давал ей встать. – Ну, хоть за ухо-то выдери… по старой памяти. Помнишь, как на этапе-то?..
– Эко чего вспомнил! – усмехнулась она сквозь слёзы. – Мы и венчаны тогда ещё не были! А сейчас куда ж – мужа-то?..
– Так не видит же никто! Ну, Устька! Ну, нешто жалко?
– Вот ведь припекло ему… Ну, коль так – получай тогда, варнак, за всё сразу! – Устинья решительно взяла его за ухо.