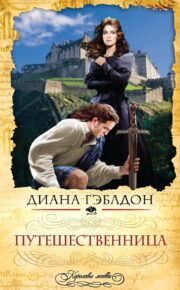В октябре он пообщался и со старшими мальчиками: Фергюсом, французским подростком, которого он забрал из притона в Париже, и Рэбби Макнабом, сыном кухарки, лучшим другом Фергюса.
Медленно проведя бритвой вниз по щеке и вокруг челюсти, он вытер покрытое мыльной пеной лезвие о край бритвенного тазика и тут краешком глаза приметил Рэбби Макнаба, следящего за процессом с восхищенным и чуточку завистливым выражением. Слегка повернувшись, он увидел, что трое парнишек: Рэбби, Фергюс и юный Джейми – все таращатся на него с приоткрытыми ртами.
– Неужто вы раньше не видели, как бреется мужчина? – спросил он, подняв брови.
Рэбби с Фергюсом переглянулись, но ответ предоставили официальному владельцу усадьбы.
– Ну… да, дядя, – пробормотал он, краснея. – Но… я хочу сказать…
Он слегка запнулся и покраснел еще пуще.
– Когда моего папы нет, да и даже когда он дома, мы нечасто видим, как он бреется, и… ну… у тебя столько волос на лице, дядя, после целого месяца… и мы так рады видеть тебя снова и…
И тут Джейми совершенно неожиданно пришло в голову, что мальчишки, должно быть, видят в нем чрезвычайно романтическую фигуру. Живет один в пещере, выходит в темноте, чтобы поохотиться, появляется в ночи из тумана грязный, дико заросший, весь покрытый ярко-рыжей порослью. Да, в их возрасте кажется, что быть изгоем и скрываться в вересковой пустоши в сырой тесной пещере – это чудесное приключение. В пятнадцать, шестнадцать и десять лет они не имеют представления об изводящем чувстве вины, горечи одиночества или бремени ответственности, от которого невозможно освободиться.
В каком-то смысле они, наверное, понимают, что такое страх. Страх перед пленом, болью, страх смерти. Но боязнь одиночества, постоянного, чреватого безумием пребывания с самим собой, – это совсем другое дело. Как и непреходящая тревога о том, как бы не навлечь беду на них. Впрочем, уж об этом-то они или вовсе не задумывались, или со свойственной юности беспечной уверенностью в собственном бессмертии просто отмахивались.
– Ну ладно, – сказал он, небрежно повернувшись к зеркальцу, когда юный Джейми, запнувшись, умолк. – Мужчина для того и рождается, чтобы познать печаль и обрасти бакенбардами. Это одно из проклятий Адама.
– Адама?
Фергюс был явно озадачен, в то время как остальные его товарищи притворялись, будто понимают, о чем говорит Джейми. Фергюсу же стесняться было нечего: для него, иностранца, неведение считалось простительным.
– Его самого, праотца Адама.
Джейми вобрал верхнюю губу и деликатно поскреб бритвой под носом.
– Вначале, когда Господь сотворил человека, подбородок Адама был лишен растительности, как и у Евы. И тела у обоих были гладкими, словно у новорожденных младенцев, – добавил он, заметив, как взгляд племянника метнулся в сторону паха Рэбби.
Хотя борода у Рэбби еще не росла, легкий темный пушок над верхней губой наводил на мысль о растительности в других местах.
– Но стоило им, когда ангел с огненным мечом изгнал их из Эдема, оказаться за воротами райского сада, как подбородок Адама начал чесаться и на нем выступила щетина. С тех пор мужчина обречен на бритье.
Джейми закончил брить собственный подбородок и театрально поклонился своим слушателям.
– Ну а что насчет остальных волос? – спросил Рэбби. – Вы ведь не бреете там!
Юный Джейми при этой мысли прыснул, снова залившись краской.
– Слава богу, что в тех местах, которые не на виду, можно обойтись без бритья, – невозмутимо отозвался его старший тезка. – А то для этого потребовалась бы чертовски твердая рука. Правда, зеркало не понадобилось бы.
Все расхохотались.
– А как насчет леди? – спросил Фергюс.
На слове «леди» его голос сорвался, что вызвало новый взрыв смеха.
– Конечно, у les filles[1], девиц, там тоже есть волосы, но они их не бреют. Обычно не бреют, – поспешно поправился он, видимо припомнив что-то из своей прошлой жизни в борделе.
Шаги в коридоре известили Джейми о приближении сестры.
– Ну, у леди это вовсе даже и не проклятие, – заявил он своей восхищенной аудитории, взяв тазик и аккуратно выплеснув содержимое через открытое окно. – Бог даровал им некую растительность в утешение мужчинам. Когда вам, джентльмены, выпадет привилегия увидеть женщину не обремененной одеждой, – он взглянул через плечо на дверь и доверительно понизил голос, – вы заметите, что волосы там растут в форме стрелы, указывающей направление, смекаете? Чтобы бедный невежественный мужчина не сбился с верного пути.
Он с важным видом отвернулся от затыкавших себе рты, корчившихся от хохота мальчишек и неожиданно устыдился, увидев медленно шедшую вперевалку беременную сестру, которая несла поднос с его ужином поверх уже основательно выступавшего живота. Собственные шутки, произнесенные ради минутного чувства товарищества, вдруг показались ему оскорбительными и неуместными.
– Тихо! – рявкнул он.
Смех оборвался, мальчишки уставились на него в недоумении. Он поспешил вперед, забрал поднос у Дженни и поставил его на стол.
Вкуснейшее блюдо из козлятины и бекона издавало такой запах, что у Фергюса нетерпеливо задергался кадык. Джейми знал, что к его приходу они выставляют на стол самое лучшее, специально прибереженное для него. Чтобы понять это, было достаточно взглянуть на их исхудалые лица. Конечно, приходя сюда, он приносил с собой мясо попавших в силки кроликов или куропаток, порой гнездо с яйцами ржанки, но этого, разумеется, никак не могло хватить для дома, где кормились не только хозяева и слуги, но также семьи погибших Кирби и Муррея. По крайней мере, до весны вдовы и дети его арендаторов должны потерпеть, а ему необходимо сделать все от него зависящее, чтобы прокормить их.
– Сядь рядом со мной, – сказал он Дженни, взял ее за руку и мягко подвел к сиденью на лавке рядом с собой.
Та удивилась – обычно в его приходы она прислуживала ему, – но и определенно обрадовалась. Час был поздний, и темные круги под глазами Дженни выдавали ее усталость.
Отложив себе изрядную порцию козлятины, Джейми решительно поставил тарелку перед сестрой.
– Но это все для тебя! – возразила Дженни. – Я уже поела.
– Недостаточно, – отрезал он. – Тебе нужно больше, ты ведь на сносях и должна есть за двоих, – вдохновенно добавил Джейми, зная, что сестра не сможет отказаться поесть ради младенца, которого носит.
И верно. Чуть поколебавшись, Дженни приступила к трапезе.
Стоял ноябрь, холод пробирался сквозь его тонкую рубашку и штаны, но он почти не замечал этого, сосредоточившись на выслеживании. Небо было затянуто облаками, но тонкие барашки пропускали лунное сияние, так что света хватало.
Слава богу, что не было дождя: сквозь шум дождевых капель невозможно слышать, а острый запах мокрой листвы забивает запах животных. Его обоняние за долгие месяцы жизни на открытом воздухе обрело почти болезненную остроту, и теперь, когда он наведывался в усадьбу, домашние запахи чуть не сшибали его с ног.
Он находился недостаточно близко, чтобы уловить мускусный запах, но услышал шорох, выдавший оленя, вздрогнувшего в тот миг, когда он учуял охотника. Животное замерло, превратившись в одну из теней, колышущихся на склоне холма под мчавшимися по небу облаками.
Как можно медленнее Джейми повернулся в том направлении, где его слух зафиксировал шорох. В руках у него был лук со стрелой наготове. Если будет возможность сделать выстрел, то только один, после того как олень сорвется с места.
Да, там! Его сердце подпрыгнуло, когда он увидел торчавшие над низкими зарослями утесника, резко выделявшиеся на фоне неба рога. Собравшись и медленно набрав воздуха, Джейми шагнул вперед.
Вспугнутый олень срывается с места столь стремительно, с таким шумом, что охотник зачастую теряется, упуская драгоценные мгновения. Но этому охотнику выдержки было не занимать: он не вздрогнул, не дернулся, не попытался пуститься в погоню, а, не сходя с места и глядя вдоль древка стрелы, хладнокровно оценил скорость и направление и, выждав момент, спустил больно хлестнувшую его по запястью тетиву.
Выстрел оказался метким – стрела вонзилась под лопатку и, к счастью для Джейми, сомневавшегося в том, что у него хватило бы сил догнать раненое животное, свалила оленя на месте. Он рухнул на поляну, неуклюже вытянув ноги, как это бывает с умирающими копытными. Лунный свет отразился в стекленеющих глазах, замаскировав темное таинство умирания ни о чем не говорившим серебром.