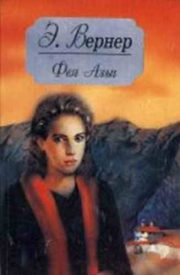Рейнгольд недоверчиво взглянул на брата:
— Не знаю, Гуго, ты шутишь или…
Молодой капитан весело расхохотался.
— Ты, кажется, совсем не доверяешь моим дипломатическим способностям. Во всяком случае не думай, что дело уладилось совсем легко! Я, конечно, приготовился к буре, но здесь решительно свирепствовал ураган… Ну и что ж? Мы, моряки, люди привычные. А когда мне удалось заговорить, до чего не так-то скоро дошло, победа уже была решена. Я мастерски разыграл возвращение блудного сына; я призывал небо и землю в свидетели моего исправления, рискнул даже упасть к ногам, и это подействовало, по крайней мере на тетушку. Я обеспечил себе прежде всего слабейший — женский — фланг, чтобы затем соединенными силами ударить в центр, и победа была блестящей! Помилование по всей форме! Группа мира… Но, Боже мой, не смотри на меня так недоверчиво! Уверяю тебя, я говорю совершенно серьезно!
Рейнгольд недоумевающе покачал головой, но невольно облегченно вздохнул.
— Вот и понимай, как хочешь! Я считал это совершенно невозможным! Видел ты… мою жену? — спросил он каким-то странным тоном.
— Разумеется, — протяжно ответил Гуго. — То есть видел-то совсем немного, а слышал и того менее, так как она совершенно стушевалась при этой сцене и даже не плакала вместе с другими. Все та же маленькая кузина Элеонора, в детстве постоянно забиравшаяся в угол, откуда не могли выбить ее даже наши мальчишеские проказы… И она-то стала твоей женой! Но теперь я должен полюбоваться отпрыском дома Альмбаха. Где он у вас?
Рейнгольд поднял на брата глаза, и его суровое лицо как-то разом просветлело.
— Моего мальчика? Я покажу тебе его. Пойдем к нему!
— Слава Богу, наконец-то я вижу проблеск счастья на твоем лице! — произнес капитан с серьезностью, которой даже трудно было ожидать от него. — До сих пор я тщетно искал его в тебе, — добавил он тихо.
Глава 3
Торговый дом «Альмбах и Компания» пользовался хорошей репутацией как на бирже, так и вообще в коммерческом мире, хотя, как уже упоминалось, и не был особенно значительным. Отношения его главы с консулом Эрлау были не исключительно делового свойства; их дружба началась еще в то время, когда они мальчиками без всяких средств поступили в ученье в один и тот же торговый дом. Один из них впоследствии сделался богатым негоциантом, и его корабли бороздили почти все моря земного шара, а торговые связи распространились на все части света. Другой основал скромный торговый дом, дела которого никогда не выходили за известные пределы. Альмбах робел перед смелыми спекуляциями, боялся больших предприятий, да и не был создан для того, чтобы руководить ими; он предпочитал умеренный, но верный барыш и почти никогда не обманывался. Его общественное положение так же отличалось от положения Эрлау, как старинный, мрачный дом с высокой крышей и решетчатыми окнами на канале не имел ни малейшего сходства с княжеским дворцом консула на портовой набережной.
Дружба бывших товарищей по учению мало-помалу ослабела, но в этом был всецело виноват один лишь Альмбах. Он никак не мог свыкнуться с тем, что консул, сделавшись миллионером, стал жить на широкую ногу, как того требовало его положение. А может быть, не мог простить другу юности и то обстоятельство, что тот занял первое место там, где Альмбах стоял только в третьем или в четвертом ряду. В деловых отношениях он, однако, умело пользовался теми выгодами, которые доставляло ему близкое знакомство с фирмой Эрлау, в то же время старательно оберегая свой мещанский и несколько старомодный обиход от всякого соприкосновения с домом консула.
Эрлау в конце концов убедился в том, что его приглашения далеко не охотно принимаются Альмбахом, и совершенно прекратил их; уже несколько лет их знакомство ограничивалось случайными встречами на бирже или где-нибудь в нейтральном месте. Незадолго перед началом нашего рассказа неотложное дело потребовало личного свидания с консулом, и Альмбах послал вместо себя своего зятя. Он воспринял как неприятность результат этого свидания — приглашение Рейнгольда в оперу и на вечер к консулу. Отказаться от приглашения было невозможно, но перед домашними старый купец нисколько не скрывал своей досады по поводу того, что Рейнгольд соприкоснулся с «жизнью набоба», как старик называл образ жизни друга своей юности.
Несмотря на все это, Альмбах был зажиточным, даже, по всеобщему убеждению, богатым человеком, вследствие чего стал главной поддержкой своей многочисленной родни, не слишком щедро наделенной земными благами. Таким образом, в частности, на его плечи свалилась забота о воспитании двух племянников, которых отец, морской капитан, оставил без всяких средств к существованию.
У Альмбаха был всего один ребенок, рождению которого он не придавал особой важности, так как это была девочка. Супруги Эрлау стали ее восприемниками, и Альмбах поистине решился на самопожертвование, назвав свою дочь в честь госпожи Эрлау ее именем; он терпеть не мог романтически-напыщенное имя «Элеонора» и поспешил переиначить его в более простое — Элла. Последнее действительно казалось более подходящим, потому что все считали Эллу Альмбах не только простым, но даже весьма ограниченным существом, кругозор которого не простирался далее хозяйственных забот и семейных дел. Девочка в раннем детстве была очень болезненной, и, может быть, это отразилось на ее умственных способностях, а одностороннее, чисто хозяйственное, воспитание в доме родителей, исключавшее всякие другие понятия и идеи, по-видимому, тоже не способствовало ее развитию. Девочка выросла тихой и робкой, никто не считался с нею, никому она не была нужна, и даже ближайшие родственники никогда не учитывали ее интересов. Все привыкли смотреть на нее, как на совершенно беспомощное, тупоумное создание, и даже замужество нисколько не изменило ее положения.
Ни Рейнгольду, ни Элле и в голову не пришло возражать против давно задуманного и давно известного им брачного плана. Какая могла быть воля у семнадцатилетней девушки и двадцатидвухлетнего молодого человека, выросших в такой зависимости? К тому же существовала привычка к совместной жизни, которая легко переходит во взаимную склонность, но Рейнгольд испытывал к Элле лишь сострадание и жалость, а она — только инстинктивный страх перед своим кузеном, далеко превосходившим ее по своему умственному развитию. Покорно протянули они друг другу руки при помолвке и через год были обвенчаны. Над обоими по-прежнему царил скипетр Альмбаха; назвав своего зятя компаньоном, старый купец так же мало предоставлял ему самостоятельности в деле, как его почтенная супруга — молодой хозяйке в хозяйстве.
Глава 4
В воскресенье контора была закрыта, и Рейнгольд мог полностью распоряжаться своим послеобеденным временем, что довольно редко выпадало на его долю. Он сидел в садовом павильоне, который после многократных битв ему удалось получить в свое единоличное пользование под предлогом музыкальных упражнений, «надоедающих всем в доме». Только здесь молодой человек мог считать себя до известной степени свободным от вечного контроля тестя и тещи, простиравшегося даже на комнаты молодых, и он пользовался каждой свободной минутой, чтобы отдохнуть в своем убежище.
Так называемый сад был таким, какой вообще возможен в старых, тесно застроенных и густонаселенных городских кварталах. Высокие стены и крыши с трех сторон окружали небольшой участок земли, пропуская в него лишь крохи света и воздуха; несколько деревьев и кустов влачили здесь жалкое существование. В качестве естественной границы с четвертой стороны тянулся один из тех узких каналов, которые прорезают город Г. во всех направлениях, и его медленно текущие мутные воды служили для садика довольно мрачным фоном. По ту сторону канала возвышались все те же каменные стены. Весь дом Альмбаха удивительно походил на тюрьму, и это сходство накладывало свой отпечаток даже на единственно свободный клочок земли — маленький садик.
Расположенный в нем павильон едва ли был намного приветливее, единственная его вместительная комната отличалась более чем простым убранством. При взгляде на старомодную мебель сразу становилось ясно, что когда-то ее за ненадобностью убрали в сарай, а потом она снова появилась на свет Божий, чтобы составить необходимейшую обстановку комнаты. Единственным украшением комнаты был великолепный рояль, стоявший у окна, обвитого чахлыми побегами дикого винограда, — наследство покойного директора музыкального училища, оставленное им своему ученику Рейнгольду. Среди нищенской обстановки комнаты этот дорогой инструмент производил такое же странное, необыкновенное впечатление, как присутствие молодого человека с идеально вылепленным лбом и пламенным взором за решетчатыми окнами конторы.