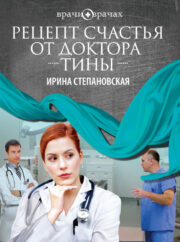– Черт его принес сюда из этой Америки, – отозвался Аркадий. В палату заглянула постовая сестра и утянула куда-то незнакомого доктора за рукав.
– «Нас двое у постели больного, – тихо процитировала Тина, – болезнь и врач…»
– Нас трое, – процедил Барашков. – Ты еще меня забыла. Только вот и я здесь ни черта сделать не могу. Похоже, в мозге все-таки развиваются необратимые изменения. Иначе ничем не объяснишь отсутствие сознания.
Тина так и сидела за столом, подперев щеки ладонями. Но вот она сделала такое движение, будто наконец проглотила что-то противное, но необходимое.
– Аркадий, раньше у нас никакой компьютерной томографии и в помине не было. Но мы же вытаскивали больных? Давай-ка для начала все-таки сведи к минимуму ток жидкости в капельнице и введи мочегонное. Нормально так введи. Не до судорог, конечно, но чтобы он выделил полную бутылочку.
Аркадий взглянул на нее:
– Я буду должен записать это в истории болезни. Страховая компания меня сожрет. В инструкции четко записано – постоянное вливание…
Тина побелела:
– Тебе компания важнее или Ашот? Делай, что говорю.
Аркадий ввел мочегонное в трубку капельницы и до минимума подкрутил ее вентиль выше места введения. Подошел и сел рядом с Тиной. – Знаешь, какая теперь собачья работа? Одни инструкции. И только попробуй, не соблюди. Зароют.
– Кто?
– Кто-кто… Все! Контролирующие органы от тех же страховых компаний, родственники, да и сами больные. Теперь жалобы в прокуратуру не пишет только тот, кому сильно лень.
Тина помолчала.
– А зачем ты меня назвал профессором?
– А иначе ты права бы не имела здесь находиться. Кстати, надень халат.
– А как профессор я такое право имею?
– Имеешь. Я же тебя пригласил. Кстати, я имею теперь право на правах родственника приглашать кого угодно. Хоть попа, хоть папу римского. Видишь, тут по всем углам иконы понаставлены?
– Вижу, – сказала Тина. – А пыль за этими иконами у вас начальственные органы не проверяют?
– Эта пыль вреда принести не может, – сказал Аркадий. – Она божественная.
– Ну-ну.
Оба они встали и подошли к Ашоту. Тина взяла его за руку.
– А рука не холодная. Прохладная только. – Она стала считать пульс.
– Что ты считаешь? Вон, монитор все высвечивает… – кивнул Аркадий.
– Мне так привычнее. – Она села на край постели Ашота и стала гладить его руку повыше запястья, как делала раньше, когда работала. – Знаешь, ты предупреди своего врача, что я тут останусь на всю ночь, и поезжай домой. Поспи хоть немного до завтра. Если что – я тебе позвоню.
– Справишься?
– Какие наши годы. Только дверь к нам в палату закрой, чтоб никто не глазел. А то тебе еще влетит.
– Да никто сюда не полезет. У доктора моего полно других проблем. Он даже рад, что ты здесь побудешь. Кстати, там, внизу, сейчас проходит банкет по случаю Восьмого марта. Я думаю, ему там приятнее, чем здесь. А больше никому наш Ашот не интересен.
– Ну и хорошо. Я сделаю все, что нужно. Привет супруге.
Барашков ушел. Тина посмотрела на часы – ровно девять. Нужно ждать примерно час, чтобы вытекшая из мочевого пузыря жидкость хоть чуть-чуть освободила мозг.
– Миленький мой! – Она вглядывалась в перебинтованное лицо и не узнавала. А может быть, она уже просто забыла, как выглядел раньше Ашот? Нет, не забыла. Просто никогда не было в его чертах этой смертельной неподвижности. Живой, как ртуть, подвижный, как ручеек, – она помнила его смеющимся, усталым, довольным, растерзанным, но никогда неподвижным.
Она повторила:
– Миленький мой! – и снова перевела взгляд на часы. Одна минута прошла. Нет, она должна успокоиться и ждать. И попутно соображать, что следует делать, если он через час, два или под утро все-таки в сознание не придет.
Ашот сидел с Надей у старого мексиканца, и она держала его за руку повыше запястья. Он говорил ей, что хочет уехать в Москву.
Всю осень он звал ее поехать вместе с ним. Хотя бы на пару недель. Просил показать ему Питер.
– Поезжай один! Я не поеду. Мне очень некогда, я должна работать. Родители встретят тебя и все тебе покажут. Они будут рады тебя принять. Расскажешь им о моем житье-бытье. Только не говори, какая у меня плохая комната, а то они расстроятся. Скажи, все нормально. Работаю. Скоро буду полноценным врачом даже по американским меркам.
– Тебе тоже нужно отдохнуть, – не унимался Ашот. Почему-то ему хотелось вырвать Надю из этого жаркого американского климата, из этой больницы, оторвать ее от этого безумного – ее мужа. Хотелось вернуть ее назад – к любящим родителям, которые без нее стали быстро стареть, к набережной Обводного канала, к пронзительным чайкам. Ей были просто необходимы нормальный сон и нормальная еда. С каждым днем, Ашот это с ужасом замечал, бледнело, несмотря на солнце, Надино лицо.
Вот прошел оранжево-фиолетовый Хэллоуин, пролетело зеленое Рождество. Билет для Ашота в Москву уже был заказан, документы приготовлены. Вылет был из Нью-Йорка.
– Я хочу пригласить тебя куда-нибудь, – объявил он Наде за несколько дней до отъезда.
– А куда? И когда? – она растерянно смотрела в календарь. – У меня нет ни одного свободного вечера. Я или дежурю, или хожу заниматься, или принимаю больных на исследования, или сплю.
– Как же быть? Ты не хочешь со мной попрощаться? – Вид у Ашота был весьма обескураженный.
– Давай попрощаемся, как всегда, в кафе на бензоколонке. Возможно, когда ты вернешься, его уже продадут, и все в нем будет не так.
– Когда я вернусь… – сказал Ашот. – У меня билет с датой обратного вылета, но я не знаю, – он помолчал, поднял голову и посмотрел в ярко-голубое, без единого облачка, американское небо. – Я не знаю, Надя, когда я вернусь.
Она улыбнулась ему устало:
– Мне будет тебя не хватать.
Следующий день в больнице должен был быть для него последним. Он решил уволиться. Раскатывая тележки с оборудованием по нужным местам, Ашот смотрел на самооткрывающиеся двери и вспоминал, как они с Аркадием катили каталки к лифту и все время попадали колесом в одну и ту же яму. «Интересно, заделали ее наконец или нет? – думал Ашот. – Как приеду, так сразу спрошу у него».
Надю он увидел сразу, как только она прошла через главный вестибюль. На тонком лице остановились чаячьи глаза, рука сжимала конверт с официальным штампом. Конверт был надорван. Ашот подкатился к ней со своей тележкой.
– Все в порядке? – Для того, чтобы она его услышала, ему пришлось потрясти ее за плечо.
– Вот, – она подала конверт. «Выражаем Вам глубокое соболезнование», – было написано в самом конце официальной белой бумаги.
– Он умер от передоза, – сказала она, когда он прочитал извещение с самого начала. – Разреши мне пройти, меня ждут больные, – и она пошла в свой отсек.
– Что ты теперь будешь делать? – спросил Ашот, уловив момент, когда из ее отсека вышел последний пациент – здоровенный мужчина в клетчатой рубашке. – Поедем со мной! Тебе больше нечего здесь терять.
– Я мечтаю выспаться, – сказала она, но Ашоту показалось, что она его уже не видела и не слышала. – Я скажу Дональду, – это был ее непосредственный начальник, – что плохо себя чувствую. Поеду домой и буду спать трое суток подряд.
– Тебе не нужно на похороны?
– Его уже кремировали, – ответила она. – Письмо искало меня почти месяц. Прощай! Желаю тебе приятно съездить. Думаю, вряд ли ты вернешься.
– А ты?
– Я съезжу, посмотрю, где его похоронили. А потом вернусь сюда. Мне остался год, – сказала она. – Надо довести до конца то, что задумала. Чтобы доказать ему все-таки, что я кое-что стою.
– После его смерти?
– Какая разница…
– Отвезти тебя домой? – спросил Ашот.
– Нет, – сказала она. – Не беспокойся! Я доеду сама. – Она ушла. Наступила темнота, в которой Ашот почувствовал, как кто-то отпустил его руку. Во всем теле и в голове возникла тупая, давящая боль, он захотел открыть глаза, встать, повернуться… и не смог. Тогда он застонал.
26
Лекарство всосалось. Когда Оля начала чувствовать его действие, она продиктовала Саше первую строчку. Вообще-то, она не почувствовала ничего необыкновенного. Она старалась описать все честно, как есть, ничего не приукрашивая. Через какое-то время ее потянуло в сон. Она продиктовала и это. Саша приблизительно знал, что так и должно быть, но почему-то испытал некоторое разочарование. Ему хотелось, чтобы Оля рассказала нечто особенное, яркое, неизвестное. Потом ему стало веселей: Оле показалось, что будто в голове у нее открывалась какая-то потайная дверца, как у шкатулки, из которой выпрыгивает чертик, и в это отверстие улетучиваются все ее мысли. В голове появилась необыкновенная легкость – достаточно было только поднапрячься, и все мировые проблемы были бы решены. Саша Дорн, усердно записывавший все, что она говорила, и аккуратно проставлявший время, даже хихикнул, до того ему показалось забавным сравнение с чертиком. Потом Оле пришли в голову интересные мысли о любви. Она рассказала Дорну, что ее любовь не имеет никакого конкретного отношения ни к ней самой, ни к нему, а является частью океана общей мировой любви.