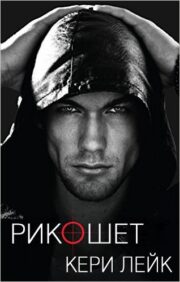— Да я, бл*дь, ненавижу тебя.
Яд брызгал из ее слов, пока она пялилась на меня в ответ, а золотистые глаза искрились бешенством.
Я облизал губы, опуская взгляд на ее грудь, и улыбнулся. Сжимая ее запястья в ловушке одной рукой, я запустил вторую под ее платье, касаясь кружева, которое отделяло меня от того, чтобы оказаться в ней, зная все, что она слишком упрямилась признать.
Ее веки отяжелели, а опьянелые глаза опустились на мои губы.
— Скажи мне, как сильно ты меня ненавидишь.
— Не смей, — предупредила она, и я заметил, как мелькнул кончик ее языка у губ.
Сжимая волосы кулаком, я потянул ее голову назад, пока напряженная шея не оказалась передо мной раскрытой, и, словно тварь из темноты, я хотел впиться в эту податливую плоть и вырвать ее глотку. Проводя языком по ее плечу, я поднимался к основанию шеи, прикусив ключицу. Обри сделала резкий вдох. Я отпустил ее запястья. Похоть полыхала по моим венам, когда она вцепилась пальцами в мои волосы и обернула ногой мои бедра, притягивая ближе к себе.
— Знаешь, что, Обри? Я, бл*дь, тоже ненавижу тебя, но… твой вкус слишком чертовски приятен.
Черт, ощущение ее кожи на моей и жгучее желание обладать ею было настолько сильным, что я хотел вылезти из собственной кожи.
Мне нужно было больше. Нужно было повернуть ее, сорвать с нее белье и ворваться в нее с яростью тысячей ночей боли. Она должна была почувствовать мою ярость, удерживающую меня на грани три долгих года.
Сорвав перед ее платья с груди, я высвободил красивые возбужденные соски из их заточения, и когда мой язык добрался до одного из них, Обри впилась ногтями в мой череп. Я потянулся вверх под ее платье, провел пальцем по влажной киске, а затем схватил тонкий материал ее трусиков и сорвал их.
— Ты гнилой отморозок, Ник, но ты… бл*дь! — Она извивалась, когда я проделал путь выше, надавливая на сладкую точку.
Сжимая ее упругую задницу, я прижался к ней передом джинсов, где мой изголодавшийся член почти прорвал себе путь наружу, лишь бы добраться до нее.
Повернув ее быстрым рывком, я отвернул ее лицом от себя, прижав щекой к стене, и похоронил нос в ее волосах, вдыхая слабый аромат ее духов.
Выгнувшись передо мной, медленно потираясь об меня задницей, посылая гипнотическую волну в мой и без того эрегированный член, она соблазнительно замурчала, и в мой позвоночник словно загнали вилку. Ее длинные каштановые волосы рассыпались фонтаном, который я так умело поймал в кулак.
Она и понятия не имела, кого выпустила. Пути назад нет. У меня на уме была лишь она — цель, и она не понимала, что я уже был на полпути к ней.
Запутываясь пальцами в ее локонах, я оттягивал ее голову назад, приближаясь ртом к уху.
— Чего ты хочешь, Обри? Ты хочешь, чтобы я пригвоздил тебя к стене и трахнул до потери рассудка?
— Я уже потеряла рассудок, если позволила тебе зайти так далеко.
— Мне нужен ответ. Сейчас же. Ты хочешь этого? — Я сильнее потянул ее волосы. — Только знай, если ты выберешь быть оттраханой, пути назад не будет.
— Сделай это.
— Сделать это? Ты все время этого хотела, не так ли? Ты чертовски хотела, чтобы я раболепствовал перед тобой, выпрашивая кусочек тебя, чтобы ты могла запустить в меня свои когти, как и в каждого ублюдка, которым ты манипулировала, да? — я облизал раковину ее уха. — Угадай что? Я собираюсь отыметь тебя, Обри. Но это не значит, что ты позволила мне взять верх в своей маленькой игре. В конце я все равно уйду.
Я задрал ее платье и все внутри остановилось с пронзающим визгом.
На нижней части ее спины, сразу над ягодицами, широкими злыми шрамами было выгравировано единственное слово: ШЛЮХА.
Через рваное дыхание, я уставился вниз на мерзость, которая останется ее клеймом до конца ее дней. Гнусным, отталкивающим клеймом, словно она была гребаным скотом. Я почти трахнул из ненависти женщину, которая, очевидно, и сама стала жертвой ненависти, и мой желудок рухнул вниз от этой мысли. Потому что реальность уставилась на меня в ответ в пяти четко вырезанных, ожесточенных злобой буквах, полностью скомкивая фантазию, в которой я придумал, что Обри Каллин была таким же преступником, как и ее муж.
Я слегка прикоснулся большим пальцем к рубцам, и ее тело подалось вперед.
Обри прижалась к стене и спустила платье вниз по бедрам, прикрывая их.
— Не смей. Не смей, бл*дь, прикасаться ко мне, — прошептала она дрожащим голосом.
— Он сделал это с тобой?
— Он все со мной сделал, — она подняла руки к обеим сторонам лица, хороня лицо в ладонях. — Пожалуйста, оставь меня в покое.
— Расскажи мне правду. Откуда у тебя флешка?
— Я сказала тебе правду. Я, мать твою, украла ее. А теперь оставь меня в покое!
Я поверил ей. Пять гребаных букв, вырезанных на ее спине, внезапно нарисовали передо мной картину этой женщины в другом свете, и впервые я поверил в то, что она украла жизненно важную информацию у человека, который, очевидно, предал ее.
У меня пересохло горло, поле зрения сужалось с постепенным сгущением тьмы по краям. Прижимая ладонь к черепу, я попятился назад, придерживаясь за стену, прежде чем убраться из комнаты и закрыть за собой дверь.
По ту сторону двери я услышал ее тихие рыдания, и на меня снизошло, что даже после похищения, приковывания к кровати, угроз убить ее, это было впервые, когда я услышал, как эта женщина плачет. Плачет по-настоящему, а не придерживается фальшивого дерьмового сценария, чтобы вызвать у меня сострадание.
Боль, которую я слышал, была настоящей.
Потерев затылок, я набрал номер Алека и вышел на кухню, где порылся в шкафчиках в поисках виски.
Ответа не было.
Я швырнул одноразовый телефон в стену, где он рассыпался на полу маленькими кусочками, и врезался кулаком в кафель.
Игра менялась у меня на глазах, а я понятия не имел, что делать дальше.
Переключатель щелкнул.
Шрамы отличались. Разнообразие в виде шрама на ее запястье говорило о другом виде борьбы. Может, у нее были проблемы, но они есть у всех.
Шрам на ее спине говорил о совершенно другом.
Каждый шрам рассказывал историю, но это были те шрамы, которые мы не хотели показывать другим, потому что в них заключалась правда. Правда Обри была выгравирована в четких отметинах на ее спине, написанных с ясностью того, что кто-то взял свое. Только садистский ублюдок мог сделать подобное.
В этом я узрел нечто, чего не хотел видеть. Нечто болезненное. Сломленное. Нечто, разоблачение чего я не ожидал увидеть, задрав ее платье. Нечто, что больше не делало ее моей игрушкой. Я увидел в Обри Каллин человека. Заклейменного, разрушенного человека, которому нужно было больше, чем я предложил в своем молчании, когда вышел за дверь.
Мой желудок скручивало в узлы, пока я шарил по шкафчикам. Куда, бл*дь, подевался мой виски?
В мгновение ока Обри Каллин превратилась для меня из объекта ненависти в объект любопытства. Что она сделала, чтобы заслужить ярость такого злобного человека? Неважно, как сильно я пытался упорядочить варианты в своей голове, ответ на этот вопрос представлял ее в пропорционально хорошем свете. Противоположностью Майклу Каллину.
Три года. Три года я наблюдал за ней по телевизору, пока следовал за Каллинами от одного мероприятия к следующему, составляя планы, строя логическое обоснование совершению последнего акта мести. В то же время, как я мог не разглядеть очевидную правду? Обри тоже стала жертвой.
Не монстром. Не какой-то Степфордской сукой. Жертвой.
Нет. Ярлык не укладывался у меня в голове.
Я нашел бутылку с остатками виски в ней, открутил крышку и налил двойную порцию, чтобы привести в порядок слова, звенящие в моей голове. Слова «Обри Каллин» и «жертва» не могли стоять рядом в одном предложении так же, как и «Майкл Каллин» и «святой». И все равно, я стал свидетелем факта, воочию увидел, как я был не прав. Как я мог убить женщину, которая очевидно была использована? Как я мог причинить ей боль и страдание, когда она истекала кровью от тех самых ран, и носила сколько же их на себе?
С каждым аргументом, воспоминание о слове «ШЛЮХА» выскакивало перед глазами и разбивало каждое жалкое оправдание на миллионы кусочков собачьей чуши.
Может, она попросила об этом?
Чушь.
Может, она солгала мне в лицо, признав, что он был не одним, кто причинял боль?
Чушь.