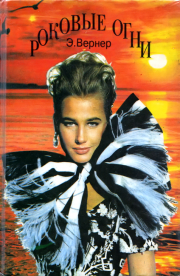Но во время этих тяжелых страданий прежний Гартмут, сын Салики, с ее дикой кровью и необузданной жаждой наслаждений, умер; казалось, будто вместе с именем Роянова, от которого он отказался навсегда, он похоронил и гибельное наследие своей порочной матери. Темные, густые локоны начинали понемногу отрастать, и тем резче бросался в глаза высокий, умный лоб, лоб отца.
Молодая женщина, шедшая рядом с ним, цвела красотой, молодостью и счастьем. Тот, кто раньше видел Адельгейду гордой, холодной и неприступной, едва ли узнал бы ее в этой стройной блондинке в простом светлом платье, с букетиком только что сорванных лесных цветов в руке; этого голоса и улыбки, с которой она обращалась к мужу и отцу, не знала Адельгейда фон Вальмоден; им научилась только Ада фон Фалькенрид.
— Ну, теперь ни шага дальше. — Генерал остановился. — Вы должны будете пройти еще весь обратный путь, а Гартмуту не следует утомляться; доктор настоятельно требует, чтобы он берегся.
— Если бы ты знал, отец, как унизительно все еще считаться больным, когда уже давно чувствуешь себя здоровым и сильным! — — с недовольством заметил Гартмут. — Право, я уже достаточно поправился.
— Чтобы рисковать тем, что только что приобрел, — докончил отец. — Ты все еще не научился терпению, но, к счастью, я знаю, что ты под надзором Ады, она достаточно строга в этом отношении.
— Да, и если бы не Ада, некого было бы и беречь теперь, — сказал Гартмут, с нежностью глядя на жену. — Кажется, я был в совершенно безнадежном состоянии, когда она приехала ко мне.
— По крайней мере, доктора не подавали мне ни малейшей надежды, тогда я послал Аде телеграмму, чтобы она приехала к тебе. Как только ты пришел в себя, то сразу же потребовал ее, безгранично удивив меня этим; я и не подозревал, что вы знакомы.
— Может быть, тебе это было неприятно, папа? — спросила молодая женщина, с улыбкой глядя на свекра.
Он притянул ее к себе и поцеловал в лоб.
— Ты прекрасно знаешь, что ты значишь для меня и для Гартмута, дитя мое! Я благодарил Бога за то, что мог оставить Гартмута на твоем попечении, когда должен был уходить с войсками. И ты была совершенно права, уговорив его остаться здесь, хотя доктор хотел отправить его на юг; пусть он сперва привыкнет к родине, от которой был так долго оторван, и научится любить ее, понимать ее.
— Научится? — с упреком переспросила Ада. — То, что он прочел нам с тобой сегодня, доказывает, что он уже давно научился этому, хотя его новые стихотворения написаны совсем иным языком, чем пылкая, страстная «Аривана».
— Да, Гартмут, твое последнее произведение не лишено достоинств. — Фалькенрид протянул сыну руку. — Я надеюсь, что родина будет гордиться моим сыном и в мирное время.
Глаза Гартмута блеснули; он знал, что значит такая похвала в устах его отца.
— Ну, прощайте, — сказал генерал, еще раз целуя Аду. — Я поеду в город прямо из Бургсдорфа, но мы увидимся через несколько дней. Прощайте, дети!
Когда он скрылся за деревьями, Гартмут и Ада повернули назад. Дорога вела мимо бургсдорфского пруда. Они невольно остановились, глядя на тихую гладь воды, блестевшую на солнце в венке из тростника и водяных лилий.
— Как часто я играл здесь с Вилли в детстве, — тихо сказал Гартмут. — И здесь же решилась моя судьба в тот роковой вечер. Только теперь я вполне понимаю, какое горе причинил отцу в тот злополучный день.
— Но ты вполне искупил свою вину,— возразила Ада, прижимаясь головой к плечу мужа. — Она искуплена и в глазах света, доказательством чему служат выражения восторга и преклонения, которыми везде осыпали тебя и твоего отца, когда стал известен твой героический подвиг.
Гартмут серьезно и печально покачал головой.
— Это был вовсе не героический подвиг, а шаг, подсказанный отчаянием. Я не верил, что мне удастся проехать, да и никто не верил этому. Но если бы я был убит, то желание проехать через вражескую территорию вернуло бы мне утраченную честь; Эгон знал это и потому отдал в мои руки спасение отца. Когда мы прощались в морозную ночь в пробитых ядрами стенах полуразрушенного храма, то чувствовали, что прощаемся навсегда, но оба думали, что убит буду я, так как я шел на верную смерть. Судьба распорядилась иначе. Невидимая рука охраняла меня среди опасностей, жертвой которых я должен был пасть по человеческим расчетам, и привела к цели. Почти в тот же самый час погиб Эгон! Тебе незачем скрывать от меня свои слезы, Ада; я не ревную к мертвому. Я ведь любил его так же, как он любил тебя.
— Евгений передал мне его последний привет, — сказала молодая женщина. На ее глазах блестели крупные слезы, которые она сначала старалась скрыть от мужа. — И Штадингер написал мне, исполняя волю своего умирающего господина. Боюсь, что старик недолго переживет его; судя по тону его письма, он совершенно убит горем.
— Бедный мой Эгон! — по голосу Гартмута было слышно, как глубоко и болезненно волновало его воспоминание о друге. — Он был так полон радости и солнечного света и создан для того, чтобы быть счастливым и давать счастье другим! Может быть, с ним ты была бы счастливее, Ада, чем с твоим диким, беспокойным Гартмутом, который еще не раз будет мучить тебя своими выходками.
Ада взглянула на него снизу вверх еще со слезами на глазах, но уже с улыбкой на устах.
— Но я люблю этого дикого, беспокойного Гартмута и не хочу другого счастья, кроме счастья быть его женой.
Лес и пруд покоились в мечтательной полуденной тишине. О чем-то думали старые сосны, тихонько шептался тростник над водой, и тысячи сверкающих искр дрожали на ее зеркальной поверхности, а над всем этим широким шатром раскинулось лучезарное синее небо. Когда-то в детстве Гартмут мечтал о том, как полетит к этому небу, как будет подниматься все выше и выше, навстречу солнцу, подобно соколу, от которого произошла его фамилия. То же небо сияло над ним и теперь в своем ослепительном великолепии — могучее, вечное небо.