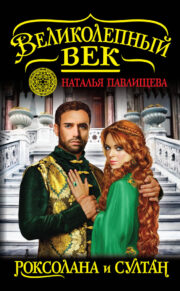Хатидже поинтересовалась:
– Ты Хуррем?
– Да.
– Говорят, ты знаешь стихи Ахмед-паши?
– Знаю.
– Прочти.
Роксолана повернулась к валиде-султан, словно спрашивая разрешения. Та кивнула:
– Почитай, если знаешь.
– Клятву верности дала ты или нет?
Я гадаю: солгала мне или нет?
Пред тобой пою я, точно соловей,
Обнадежь меня, красавица, скорей.
Ты измученному сердцу дай ответ:
Для меня расцвел цветок твой или нет?
Хатидже захлопала в ладоши:
– Есть такой стих, я его тоже помню! А еще почитай?
Роксолана прочла еще несколько стихов, только уже не Ахмед-паши; она невольно загрустила, вспомнив судьбу Гюль.
– Почему ты грустишь, я зря назвала тебя Смеющейся?
– Нет, валиде-султан, просто я вспомнила свою погибшую подругу.
– Вах! А как она погибла?
– Убили.
– Кто?!
Роксолане вовсе не хотелось рассказывать любопытной Хатидже, что Гюль казнили за прелюбодеяние, пожала плечами:
– Разбойники.
– Я слышала, ты философии училась?
– Да, Хатидже-султан.
– Повелителю будет интересно с тобой поговорить.
– Вот еще! – рассмеялась Махидевран. – Он в спальне не говорить любит, а совсем другим заниматься. А здесь и посмотреть не на что, не только потрогать.
Валиде молча наблюдала. Роксолана спокойно ответила баш-кадине:
– У Повелителя и без меня есть кого в спальню звать.
– Уж конечно!
К их столу подошла Гульфем, уселась, поелозив задом, мрачно молчала.
– Гульфем, что случилось?
Валиде обязана заботиться обо всех, приятны они или ненавистны.
– Махмуд опять болен.
– У тебя слабые сыновья, Гульфем! Не то что мой Мустафа, – не утерпела Махидевран.
– Махидевран, не хвались, Махмуд тоже был крепок, а потом точно что подкосило.
– Сглазил кто-то! – объявила Хафиза, сестра Сулеймана по отцу. – Или потравил. Неугодных всегда травят.
Роксолана, поднесшая ко рту кусочек брынзы, едва не подавилась. Хафиза, с которой она рядом пристроилась на краю, заметила, усмехнулась:
– Это не про тебя, ты никто, тебя и травить не станут, просто зашьют в мешок и бросят в Босфор. Травят только тех, кто чего-то стоит.
Успокоила, называется! Но женщину уже не остановить.
– А еще могут по приказу Повелителя просто казнить, потому что не угодил!
Роксолана уже знала, в чем дело, султан недавно казнил мужа Хафизы Ферхад-пашу, того самого, что первым примчался к новому султану с сообщением о смерти его отца. Конечно, злоупотреблял властью, не без того, но кто не делает такого? Сулейман не посмотрел, что Ферхад-паша зять, не вспомнил прежней его поддержки, не пожалел единокровной сестры, приказал казнить провинившегося.
Хафиза не простила единокровному брату такой расправы, она предстала пред Повелителем в траурном одеянии, хотя носить траур по казненному нельзя. Мало того, объявила:
– Надеюсь, что скоро смогу надеть траур и по своему брату!
Это был прямой вызов, за который следовало казнить и саму Хафизу, но Сулейман встретился глазами с сестрой и… промолчал. Понял, что для нее разбойник и взяточник Ферхад-паша был, прежде всего, мужем, с которым женщина делила ложе. А теперь вот осталась никому не нужной вдовой. Кто возьмет вдову, да еще и не очень молодую и не очень красивую? Разве из-за богатства, но что за сладость жить с мужчиной, взявшим тебя в жены ради твоих денег?
Но главное – Хафиза просто любила своего негодника Ферхада. Любила зятя и Хафса, хотя если выбирать между ним и сыном, и на мгновение не задумалась бы.
Но валиде-султан очень не любила ссоры, тем более такие, что состоялась между братом и сестрой. Она, как могла, помогала Ферхад-паше, пока тот был в опале, но не стала удерживать султана, приказавшего казнить провинившегося. Этого Хафиза валиде-султан простить не могла.
Роксолана слушала перепалку и слова обиженной Хафизы и испытывала острое желание уйти. Уж лучше слушать пустую болтовню Мираны, обсуждающей, у кого больше шансов попасть на ложе Повелителя или у кого красивей браслет, чем это вот шипение близких к Повелителю женщин, где речь идет уже не о камешках на браслетах, а о жизни и смерти.
Девушка не заметила, как пристально разглядывает ее валиде-султан, а зря, потому что этот взгляд многое изменил в судьбе самой Роксоланы и в судьбе всей империи, хотя вовсе не так, как валиде-султан хотелось бы.
Сулейман
Желал ли Сулейман власти? Как не желать, конечно, желал! Был ли готов? И готов тоже был, потому что единственный наследник, потому что знал, что это его судьба.
Но вот навалилось, накатило, оказалось не все так, как ожидал. И все же он справился, усмирил янычар, даже не усмирил, а просто подождал, когда сами угомонятся. Чувствовал, что если пойдет у них на поводу – совсем сядут на шею, наденут узду и будут погонять. Нет, Сулейман желал, чтобы они получили из его рук подарки как милость, а не как вытребованную плату. Пусть зависят янычары от султана, а не от своих воинов. Понимал, что совсем освободиться от этой зависимости не сможет, на чьи еще сабли рассчитывать в Стамбуле, но сумел поставить воинственных стражей на место, показать, кто в Стамбуле хозяин.
А чтоб не бузили, щедро одарил, почти опустошив казну.
Подействовало; янычары, почувствовав, что подчинить себе нового султана не удастся, предпочли лучше получать от него подарки. А когда Сулейман безжалостно казнил тех, кого посчитал виновными, даже если это родственники, как Ферхад-паша, Стамбул окончательно поверил, что на троне не тихий любитель поэзии, а потомок, чьи предки наводили ужас на подданных.
Сулейман вовсе не желал наводить ужас, но расправляться пришлось. Как и воевать.
Его отец султан Селим умер, когда шла подготовка к походу. Селим однажды сказал сыну:
– Если турок слезает с седла, чтобы сидеть на ковре, он гибнет. Не соверши этой ошибки.
Нечто похожее твердил Ибрагим:
– Судьба любого правителя – борьба. Тебе придется бороться и с внешними, и с внутренними врагами. Придется завоевывать, потому что, если не завоюешь ты, завоюют тебя. Если не хотел такой судьбы, нужно было идти в поэты.
Сулейман смеялся, он и правда любил поэзию и сам писал хорошие газели, но представить себя только пишущим стихи или просто сидящим во дворце за философскими беседами, как дед Баязид, не мог. Еще и потому, что прекрасно помнил судьбу деда, ведь был достаточно взрослым, чтобы понять, что с тем сделал отец.
– Мне не страшно, сыновья пока маленькие, не свергнут, могу и посидеть.
– Можешь, – соглашался Ибрагим, – но если долго сидеть, то колени не смогут разогнуться, когда захочешь встать.
– Ты прав. Но сидеть я не собираюсь и воевать буду, иначе янычары меня самого завоюют. Но и Стамбул развивать тоже буду.
– Как султан Мехмед? Ты на него хочешь быть похожим?
– В одном не хочу. Не хочу быть столь жестоким. Человеческая жизнь не пыль на дороге, с ней считаться надо. И давать возможность исправиться, если ошибся. Все должны знать, что в первый раз прощаю, а вот во второй шелковый шнурок на шее затяну.
Ибрагим задавал вопрос:
– Как ты надеешься быть таким справедливым?
Сулейман отвечал:
– Жить только по закону. Перед законом все равны: и янычар, и торговец, и крестьянин, и падишах.
– Да, только султан эти законы менять волен, – смеялся друг.
– Есть те, которые менять нельзя, законы веры. И если остальные под них равнять, то все получится.
– Мехмед Завоеватель просто дополнял те законы, которые обойти нельзя. И дополнения всё меняли.
Сулейман понимал, о чем вел речь Ибрагим – о законе, оправдывающем пришедшего к власти султана, пожелавшего уничтожить всех других претендентов на трон.
– Не так надо. Надо просто заранее подготовить преемника и всех приучить к мысли, что именно этот сын будет султаном. Чтобы остальные с детства знали: это наследник, ему нужно помогать и поддерживать.
– У тебя по закону наследник Махмуд, а ты больше любишь Мустафу. Как выберешь, по закону или по душе?
Трудные вопросы, но пока не до них. Он действительно больше других любил самого младшего сына Мустафу, которого родила его обожаемая Махидевран. Но перед Мустафой еще два Махмуда и Мехмед. У старшего Махмуда мать в Кафе тихо живет и за место валиде-султан бороться не будет, ей жизнь дороже. А вот Гульфем с Махидевран друг в дружку так вцепятся, что кипятком не разольешь.