– Нету Бога! И нету добра в людях. Без родителей мы росли, по углам мотались, и много мы с тобой видели добра? Укоры, тычки, а бывало, что в голоде и холоде держали нас. Понимаю, потому и выросли мы зверятами, а теперь осатанели, в беспредельщики подались. Мы с тобой с пелёнок – сплошняком разорённая судьба, нам пути-дорожки не может быть, потому что ласки нам не было от людей никогда. Но теперь, брат, поздно хныкать. Как живём, так и подохнем и сгинем, – по-скотски.
– Встречались, Серёжка, добрые люди – чего уж ты!.. И мать-отец у нас хорошие: вон какие учёные да культурные люди.
– Поганые они. Оба сволочи. Особенно мамаша: свихнулась на науке, люди для неё – тьфу, ей подавай деревья, кустики. Потому и душа у неё стала деревяшкой. А папаша наш – малохольный размазня, баба слезливая. Они оба и сгубили нас навечно. Народить народили, а людьми сделать не смогли. Потому и конец нам такой обоим – убийцы мы и падаль. Так и будем жить – сгнивать заживо.
– Тормози! Я вернусь пешком. Буду замерзать, ползком волочиться, а его спасу. А значит, пойми ты, брат, спасу и тебя, и себя. Тормози, ну!
– Нет!
– Тормози, гад!
– Не-е-ет!..
Пётр ухватился за руль, сбил ногу брата с педали газа. Джип круто мотнуло, забросило и швырнуло с этой горной прибайкальской дороги. Перед глазами братьев – сначала яростно-голубое безбрежное небо, следом, но уже по наклонной, – Байкала сверкающе-синее, как у жар-птицы из любимой сказки их далёкого детства, пёрышко-кусочек, ещё мгновение – и приветственно отворилось зеленохвойное скалистое ущелье, а там где-то ниже, ниже, очень глубоко – яма, но осиянная светом закатного солнца, в приветных блёстках озерковой водицы.
– Мама! Ма-а-ма!.. – успел вскрикнуть Сергей.
Братья умерли с распахнувшимися внезапно и стремительно сердцами для любви и добра. Может статься, приголубят их, не нашедших утешения в жизни земной, небеса.
66
Убитый, но ещё не упавший Лев вошёл в комнату, ладонью тая набалдашник заточки, присгорбленный, будто удерживал на плечах непомерную тяжесть, но упорно прямящийся. Мария от окна козочкой подпрыгнула к нему, прильнула к груди.
– Лёвушка, Лёвушка! – ластилась она, ослеплённая светом солнца и вспышкой нежности в своей груди, а потому неясно разглядела в полумраке комнаты Льва. – Ух, как ты шваркнул того питекантропа. И второму поддал бы, рыпнись он на тебя, да? Какой ты сильный у меня. Ну, просто супермен, Шварценеггер!
– Мариюшка… радость моя… нам надо уходить, – на срыве дыхания вымолвил он, крупно сглатывая наступающую горлом кровь. – Пойдём в ближнее зимовьё, до него каких-то километров пять. И до райцентра от него всего ничего. В зимовье продукты, дрова, тёплые вещи, – я потихоньку подготовил его к жизни: мало ли что может стрястись. Уходим. Медлить нельзя.
Она с пытливой, но улыбчивой недоверчивостью, похоже, не желая освобождаться от своих юных игривых чувств и настроений, посмотрела в его глаза. Он – улыбнулся. И ей, возможно, ответить бы свежим цветом улыбки, пошутить, поиграться ещё, но – что с ним: она не узнаёт его лица! Да и не лицо она видит – какую-то ужасную, землисто-бледную, с чёрно-синими, как синяки, полосами маску.
– Лёвушка, что с тобой? – выдохнула она на спаде голоса.
– Потом узнаешь. Пожалуйста, одевайся, накинь куртку, шапку, лучшую обувь. Уходим, родная. Пройдём через задние сени. Ничего не бери с собой лишнего: там всего навалом, на две-три недели хватит тебе.
– Лёвушка, ты сказал тебе? Но почему только мне?
– Потом, потом объясню. Идём же, идём, Мария.
– Ой, запахло горелым! – Она подпрыгнула к окну. – Крыльцо в огне! И веранда тоже! Они подожгли наш дом!
– Уходим!
– Лёвушка, миленький, родненький, что с тобой, какой вред причинили тебе эти мерзавцы? Ты едва стоишь. Как же ты пойдёшь?
– У меня достанет сил до зимовья. Я должен тебя увести отсюда и – уведу. Хоть живым, хоть мёртвым, а тебя буду спасать и – спасу. А потом… А потом посмотрим. – Помолчав и сглотнув кровь, прибавил: – А потом Богу решать и судить. Пока же могу ещё решать и действовать я сам.
Он вынул из-за пазухи револьвер. Но за дверями сеней и наруже никаких препятствий они не обнаружили, никто не поджидал. Вскоре выбрались на тропу. Когда оглянулись – крыша их дома полыхала, чадом заляпывало солнце и небо.
Лев шёл быстро, поминутно ускоряясь, но его бросало и сгибало. Он мог свалиться с обрыва. Мария пыталась поддержать его, подсунуться под плечо, однако он не давался, молчком вырываясь вперёд, и она вынуждена была порой бежать за ним.
Уже на самом подходе к зимовью у Льва подломились ноги и он, упрямо удерживая колени и спину прямыми, упал-таки, сражённый, но ещё не мёртвый. Силился, сжимая зубы и хрипя, ползти. Наконец, затих, повалился на спину. Кровь не удержал в себе – она хлынула и обильно залила грудь и лицо. Мария вскрикнула и только сейчас разглядела торчащий в его животе набалдашник.
– Что с тобой сделали эти нелюди! Я их уничтожу, изрублю на куски! Я никого не пощажу! Любимый, не умирай! Я сейчас что-нибудь придумаю. Я спасу тебя. Знай, я тоже умру, если ты умрёшь, слышишь? Слышишь?!
Он не отзывался, лежал с сомкнутыми чёрными веками, слабо, на угасании дыша в судорожных перерывах.
Она стала озираться, затравленно метаясь залитыми потом и слезами глазами. Но что она могла увидеть в тайге кроме беспричастных скал и деревьев, а над ними – этих вечных солнца и неба? Жизнь светилась и торжествовала самыми своими яркими и могучими красками вокруг и над. Снежные дали были жарко, обжигающе белы, отовсюду сыпалось игривое, нежное сверкание подледенённого недавней оттепелью снега. Тепло, тихо, распахнуто. Это место прибайкальской тайги Лев и Мария любили, были рады, что есть здесь зимовьё, и проводили в нём суток по двое, по трое, когда бродили окрестностями. Лев любил сидеть на бугорке возле зимовья и подолгу смотреть вдаль. «Виды здесь, как в Чинновидове: просторы, строгость пейзажа», – говаривал он неизменно утихающей здесь Марии. А иногда прибавлял: «Мы обязательно вернёмся с тобой в Чинновидово и – заживём, хорошо, родная, заживём. Как все люди».
Как все люди, – вспомнила Мария его слова и мечты и заскулила. Что делать, что делать, куда бежать, к кому обратиться, у кого попросить о помощи? Закричишь караул – кто услышит, кроме, возможно, тех двух бандитов?
В отчаянии потянула за набалдашник, – не пошло, внутри Льва вроде как всхлипнуло или, вернее, будто бы оборвалось и тяжко упало что-то такое вязко-влажное. Ужас, ужас! Она увидела примыкающий к набалдашнику краешек заточки; он багряно кровью и зеркально сталью блеснул на солнце. Она зачем-то подняла голову к небу, но ни одного слова не пришло к ней, не наступило и осознание того, что, коли подняла голову к небу, надо же, наверное, сказать что-то или подумать в каком-нибудь направлении или же поступить как-нибудь по-особенному. Она сжала зубы и завыла, по-волчьи протяжно и по-взрослому хрипато.
Ещё потянуть разок? Что она ещё могла и способна была придумать!
67
Лев очнулся, застонал, но сквозь жуткую землистую прозелень кожи смерти, кажется, улыбнулся своей Марии, по крайней мере морщины у губ собрались:
– Не вытягивай – я сразу умру. Так кровь сдерживается, а кровь – это хотя бы какая-то жизнь.
– Миленький, не умирай… Лёвушка… Лёвушка… Смотри, красоты сколько везде! Как в нашем Чинновидове. Природа для нас, всё для нас. Надо жить… надо жить…
– Надо жить, – повторил он эхом, но шепотком. – Чинновидово. Хочу в Чинновидово, в наш дом. Да, надо бы жить ещё.
Помолчал, видимо, скапливая мысли и силы.
– Крепись, моя принцесса, моя любовь. Теперь мы не избежим людей: они придут сюда за мной, за живым или мёртвым, а потом, разобравшись, что к чему, будут костерить меня: похитил невинную девушку, школьницу, совратитель, эгоист, только о себе, о своих удовольствиях и думает. А то и крепче скажут: страшный человек, преступник, и наручники нацепят, если живым ещё буду. Человек лёгок на суд и расправу. Не только по себе знаю.
– Не наговаривай на себя! Пусть только попробуют вякнуть на тебя! Какая я им невинная девушка? Я – баба.
– Баба? – Лев вздрогом щеки смог улыбнуться; стал искать руку Марии.
Она поняла, – подняла его ладонь и стала – целовать её, приговаривая:

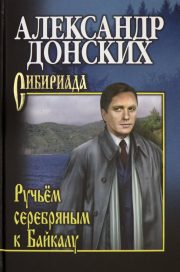
Роман понравился. Задел и порадовал красками свежими и природными. Любовная история необычная, но типическая для рода человечьего, тем более по-особенному интересна и важна. Хвала автору!