– Живи, живи, мой прекрасный Лев, мой царь, мой муж!
– Ба-а-а-ба, – протянул он, вроде как любуясь словом. – Нет, ты ещё малышка, несмышлёныш. И я, Маша, так виноват, так виноват перед тобой. Тебе надо жить рядом с матерью, набираться силёнок, общаться со своими сверстниками, полюбить, наконец, парня.
– Нет! – крикнула она, рыдая и целуя его руку. – Я – баба! Я – баба, Лёвушка, родненький мой, жизнь моя! Пусть все они слышат: я – ба-а-а-ба! Мне не надо никаких сверстников: они все безголовые, ненормальные, примитивные. Мне с ними скучно. Мне и никакого парня не надо, потому что ты лучший на земле парень. – Она секундно замешкалась в очевидном сомнении говорить не говорить, и всё же сказала: – И мать мне не нужна. Да. Да, не нужна теперь. Ты, только ты мне нужен! Любимый, прекрасный, самый добрый на свете человек! Твои мечты – теперь и мои мечты: я тоже хочу влиться ручьём серебряным в Байкал. Я тоже верю и горжусь, что во мне частицы звезды – серебро. Я… я… поверь, любимый: я стала такой же, как ты, и ни за какие деньги не соглашусь стать какой-нибудь другой. Там – другая жизнь, и пусть они живут как хотят. Хоть на головах ходят. Правильно я говорю? Правильно? Правильно, а?
Она уже захлёбывалась слезами, утыкиваясь лицом в его широкую, всегда мозолисто-бело-мягкую и тёпло-нежную, но теперь ставшую шершаво окаменелой, мертвенно серой ладонь. Он молчал с закрытыми глазами, по-видимому, снова подкапливая силы, определяясь с мыслью, которая никак не должна быть случайной, неполезной для его Марии.
– Не говори, Маша, что мать тебе не нужна. Не разбрасывайся словами. Она – твоя мама. Мама, – тоненько произнёс он. – Любая мать – самое святое. Помни до гробовой доски – самое святое.
– Не буду, родненький, любимый, не буду. Ты единственно только не умирай. Учи меня, наставляй, веди по жизни. И живи, живи! Ведь ты классно умеешь жить!
– Ты мне там, в доме, что-то хотела сказать.
Она смахнула со своего накрасневшегося, подпухшего носа и подбородка влагу, как бы охорашиваясь, выпрямилась, вроде как для солидности, и отчётливо, но с затаённой тихонечкостью сказала:
– У нас будет ребёнок, Лёвушка.
Помолчала, зорко ловя глазами изменения на его лице. Несомненно, ждала и верила, что он оживится, что новость вдохнёт в него сил, здоровья, и он будет готов бороться со смертью.
Он покачнул для неё головой, но веки его тяжелели, слипались. Он уже не смог их удерживать, чтобы посмотреть на Марию более открыто и ясно.
– Ты рад, ты доволен? – Он снова покачнул головой. – Я беременная, а значит, Лёвушка, уже баба. Настоящая баба! Теперь ты понимаешь, что я баба, что я женщина? Твоя баба, твоя женщина, твоя жена, твоя любовь. Навечно твоя. И ты навечно мой. Понимаешь, слышишь, любимый, прекрасный, звёздочка моя серебряная? И никто ничего не скажет, а если скажет – получит от меня! Понял? И тебе теперь вдвойне и даже втройне надо жить: мы же не одни с тобой. Понимаешь, Лёвушка?
Он, возможно, желал улыбнуться, чтобы как-то полнее одобрить её слова, поддержать, однако лишь смог поморщиться. Хотел и словом отозваться – его губы потянулись, напряглись, однако кровь снова хлынула горлом. Он кашлял и хрипел, давясь. Искорёженное болями и надсадами лицо набухало чёрной, грязновато-землистой синькой смерти.
– Мой бедный Лев, мой ласковый зверь, как мне тебя спасти?
Она снова подняла голову к небу и уже отчётливо поняла, для чего сейчас нужно смотреть в небесную даль и что говорить небу:
– Господи, Ты же видишь, что он хороший, что он прекрасный, что он лучший из людей, что он ещё нужен в жизни, что он должен и хочет жить, так помоги же, Господи, не оставь его!
Прислушалась. Но – тишина глубокая, как в яме или же высоко в горах.
– Боженька, родненький, отзовись, пожалуйста, – промолвила она, опуская глаза и поникая вся.
А Лев, каменея лицом, в нечеловеческих натугах вдруг приподнялся на локтях – посмотрел сквозь ресницы едва раздвинувшихся век, насколько далеко до зимовья. Метров, наверное, сто – сто двадцать. Перевернулся для большей сноровистости на бок и стал, выпрямляя руку и подгибая, точно бы для прыжка, ноги, подниматься, подниматься.
Медленно, тяжко поднималось его большое, сильное тело от земли, разрывая её притяжение и власть. Веки поминутно слеплялись полностью, кровь печёночными сгустками извергалась изо рта, дыхание затихало или вырывалось наружу с брызгами крови. Он, быть может, не должен был подняться, а – упасть и умереть совсем.
Но – чудо: он встал на ноги. Его, точно ударом, сильно качнуло назад, однако он устоял, закрепился ступнями на камнях и корнях тропы. И стоял, стоял, пошатываясь лишь немножко, как, возможно, вековое дерево под напором стихии.
– Пойдём, моя Мариюшка, – захрипело и забулькало в нём то, что когда-то было его голосом. – Я слышу тебя. Я могу… могу… Там надёжное укрытие, там бронированная дверь и продукты. Не отчаивайся. Поддержи малость. Вот так, отлично, молодчина. Ты худенькая, хрупкая, но сильная у меня… всё выдержишь в жизни, не сломишься, как бы не гнули тебя и не мучили. А гнуть и мучить будут. Но ты не бойся… никого… ничего… Идём… идём… Есть только миг… Помнишь? Пока он наш. В зимовье спасение. Не бойся. Доживу… Доведу… и тебя и его…
Он ещё что-то говорил, бормотал, но разобрать уже было невозможно, – в горле стало булькать и сипеть. Он уже не мог открыть глаза, кровь неотступно душила его дыхание, и он не дышал как свойственно живому организму, а тянул в себя, напрягался весь, быть может, пытаясь вобрать воздух и кожей, всеми порами своего тела, остатками разума и памяти. Мария поняла – он бредит, он почти что без сознания. Но чудо не оставляло их – с её помощью он стал переставлять ноги. Шажок, другой, ещё. Ещё. Позади уже немало шажков. Зимовьё ближе. Ещё ближе. Но – снова упал, подкошенный смертью, с которой он словно бы состязался: кто сильнее, кто хитрее, кто настырнее? Попытался, но не смог подняться. Она потянула его за куртку. Он, огромный, неимоверно тяжёлый, сантиметрик за сантиметриком перемещался. В какой-то момент Мария обнаружила, что его нога шевелится – отталкивается, нащупывая опору, от камней и корней.
– Доползу… спасу… – расслышала Мария.
– Лёвушка… Лёвушка… – хотела она поддержать и подбодрить его. Но его глаза были закрыты, лицо мертво, не отображало внешних усилий, но он, хотя не отзывался, продолжал отталкиваться.
68
Вот и зимовьё. То самое, в котором они нередко переночёвывали, совершая пешие прогулки, обследуя тайгу и горы, выбираясь к Байкалу. Раньше у предусмотрительных и предприимчивых супругов Сколских здесь была перевалочная база со снаряжением, провиантом, фуражом для лошадей и оленей; даже магазинчик был организован, – и для тех, кто уходит в горы, и кто возвращается с вершин и перевалов. От этого зимовья начинались восхождения, разнообразные маршруты, путь к Байкалу, в дали безлюдной тайги. Само строение собственно не было зимовьём, какие обычно сооружают из брёвен рядом с тропами охотники и туристы; скорее его можно было бы назвать бункером, складом, схроном или даже ямой. Оно железобетонными стенами – в земле, пять-шесть ступеней – вглубь, там бронированная металлическая дверь, невидимая за нависшими кустами; окон нет, а вместо крыши насыпь, под которой тоже железобетон. Только по торчащей металлической трубе и определишь, что тут какая-то постройка.
В заветной застрёхе Мария нашарила ключ, открыла им ржаво залязгавшую дверь с врезным замком. Внутри просторно, чисто, но холодно, сыро. Мешки и ящики с продуктами. Печь-буржуйка; даже несколько вязанок дров. Топчан с пуховиками. Можно, несомненно, перемочься.
С великим, надсадным трудом Мария затащила совершенно омертвелого Льва внутрь и даже затянула его на топчан. Заперла дверь, зажгла керосиновую лампу; всматривалась и вслушивалась – живой ли? Живой, дышит. Дышит хотя и без захлёбов, но тихо-тихо, на угасании судорожных рывков.
Затопив печку, Мария на цыпочках подходила ко Льву, всматривалась в его отчаянно и чудовищно чужое лицо. Но – что дальше? Что предпринять? Ей представилось, что он спит, а если спит – выздоровеет. Проснулся и – здоров, ну, почти что здоров! Разве так не бывает в жизни?
Услышала его хриплый, едва различимый, но ровный, видимо, напитавшийся какими-то самыми последними силами, голос:

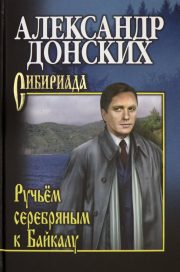
Роман понравился. Задел и порадовал красками свежими и природными. Любовная история необычная, но типическая для рода человечьего, тем более по-особенному интересна и важна. Хвала автору!