– Иди к людям, Мария. Райцентр не далеко. Дорогу знаешь. Дотемна успеешь. Иди к людям, иди.
Его веки чуть-чуть приоткрылись:
– Мариюшка. Любимая. Ещё разок посмотрю на тебя.
– Лёвушка, я мигом сбегаю в райцентр и приведу врачей. Потерпи маленько, ну, чуточку! Я буду не идти – я буду лететь.
– Потерплю. Иди. Иди к людям. Тебе надо быть с людьми. А не со мной.
– Не говори так!
– Надо, моя прелесть, именно так говорить. И ещё кое-что должен сказать тебе напоследок: какой же я был дурак, что бежал от людей и от жизни! И тебя, подлец, эгоист, безумец, тянул за собой. Братья остановили меня. Они молодцы. Так мне и надо. Я ожесточённый. Я зверь. Я уже давно не совсем, наверное, человек. А может, и никогда не был им по-настоящему. По деяниям моим и плата мне от людей. От всех людей через братьев Сколских. Как жил, так и умираю – глупо, безобразно. Перед человеческой стихией ничто не устоит: как людское море захочет, так и получится. Братья виноваты лишь в том, что они исполнили вердикт. Не им, так кому-нибудь другому пришлось бы наказать меня. Я ублажил свою гордыню, убедил себя, что не трус, что свободен, что едва ли не помазанник божий и – что, Мария? Одна разорённая судьба разорила другую, – вот что получилось у меня с братьями. Грустно, нелепо, страшно.
Его голос утонул в хрипе. Передохнув и мало-мало уняв грудь, сказал:
– Ты должна знать: я когда-то в молодости не берёг свою душу, и она, раззадоренная мною же, превращалась в яму, в чёрную и бездонную яму зла и пороков моих. Береги, Мариюшка, свою душу, а душа жива и здорова только рядом с другими людьми, какими бы они ни были. Не ожесточайся никогда, умей прощать и сама ищи прощения и мира. Видела, как я одного из братьев ударил о металлическую решётку? Да, я не сумел стать человеком. Зверь я, зверь. И имя мне родители мои звериное дали. Угадали когда-то на десятки лет вперёд.
– Опять наговариваешь на себя, выдумываешь чего-то несусветное! Никакой ты не зверь, а самый классный на земле человек. И душа твоя осталась, несмотря ни на что, поэтической, хотя проработал ты многие годы инженером и в бизнесе бился за место под солнцем. А от этих негодяев ты защищался, просто защищался: пойми, если бы ты не напал первым, они вдвоём одолели бы тебя. Ты поступил как настоящий мужчина, мужик.
– Нет, я дрянь человек. Мне нельзя жить, потому что моя душа – яма. Бог вот-вот приберёт меня. А тебе надо жить. И ты будешь жить хорошо, потому что ты умная, добрая, прекрасная девушка.
– Я – баба!
– Не называй себя этим глупым словом. Довольно, довольно: иди. Иди к людям. Постой, постой, Мария. Чуть не забыл: мои капиталы, дом в Чинновидове и квартира записаны на тебя и Агнессу. С сестрой, на всякий случай, я предусмотрительно уговорился о многом по телефону ещё летом. Она не обманет ни тебя, ни меня, да и ни кого-либо в целом свете – не способна: душа её чиста и наивна, точно у ребёнка. Она хороший человек, настоящий, теперь понимаю, человек она, в отличие от меня. Вы вместе сходите к нотариусу и…
– Мне не надо никакого наследства! – вскрикнула Мария. – Я не возьму ни твоих денег, ни твоего имущества. Мне нужен ты, только ты! Живой, здоровый, красивый!
– Успокойся. – Он снова стал захлёбываться кровью. – Иди, иди же. В тайге и горах темнеет рано. Спеши.
– Ладно, я пошла, Лёвушка. – Она бочком отступала к двери. – Ты потерпишь, дождёшься, а? А?
Он не смог отозваться голосом, но губы его потянулись и на уголках наморщились: может быть, он снова хотел улыбнуться, чтобы подбодрить свою Марию, свою любовь и судьбу перед уже сумеречной и дальней дорогой к людям.
Она отходила от зимовья оглядываясь. Часто останавливалась: не вернуться ли? Нет, надо не просто идти, а бежать, нестись как на крыльях! И она побежала петлястой узенькой тропкой. Нависающие отовсюду кусты хлестали её по лицу, она запиналась, падала, жестоко раня колени и руки. Но тотчас соскакивала, тут же забывая об ушибах и ссадинах.
Скоро тропка вольётся в большую дорогу, которая даже в темноте этих безбрежных лесов и гор не позволит заблудиться. И этой накатанной большой дорогой Мария выйдет к людям, и они помогут ей как надо.
69
Лев очнулся в тускло и неверно мерцающих потёмках. Керосин в лампе догорал, пламя из последних сил, склонное вот-вот угаснуть, вилось тоненькой струйкой. На щербатых железобетонных стенах горбились густые, тучные тени. Яма? Что, он снова в яме? И она такая же, как в Чинновидове, – железобетонная. Там он добровольно закапывался и прятался от людей, а здесь, выходит, судьба сама загнала его в яму. Как в могилу. Ещё не совсем мёртвого. Но он не хочет сидеть в яме. Он хочет к людям, он хочет к небу, каким бы оно ни было сейчас – светлым или чёрным. И ему подумалось умиротворённо, что небо всегда светлое, если светла твоя душа.
– Мария, – раздирая нечеловеческой натугой горло и лёгкие, позвал он.
Молчание, тишина и – всхлип огонька. Следом – тьма. Бездна. И страх просёк его сердце. Но страх словно бы свет искры выбил в нём: вспомнил, озаряясь изнутри, – она ушла, ушла к людям! И наверняка уже с ними. Люди помогут ей, люди направят её; мир не без добрых людей. Не пропадёт его Мария, выживет, закончит университет, станет прекрасным человеком, хорошей мамой, супругой. Всё, всё у неё сбудется.
К горлу подступила кровь, которую, возможно, разбудило слово Мария; а может быть – настал последний и бесповоротный срок его.
– Знаю – умру.
– Но – не здесь.
– Не в яме.
Он попытался подняться – не получилось. Перевалился на бок и покатился к полу. Удар. Разрывающая тело и разум боль. Однако сознание, когда отлёживался и оберегал каждый вдох и выдох, удержал, скрепил его в себе.
Боком – чтобы не задевать набалдашник, который продвигал и вонзал остриё стали глубже и расшевеливал его там, – отталкиваясь ногой от пола и подтягивая себя вперёд подбородком, пополз к двери.
– Люди.
– Небо.
– Мария.
Но растревоженная кровь уже не утихала, становилась стихией, ураганом, – душила, напирала, убивая. Мышцы и суставы деревенели и тяжелели, не хотели шевелиться, повиноваться.
Сантиметр, другой, ещё, ещё. Не сбиться бы в потёмках с направления. Ценна каждая секунда жизни, а она иссякает стремительно, как, возможно, вода в водоёме, когда прорвёт плотину.
Но вот и дверь. Теперь дотянуться бы до задвижки замка. Попробовал поднять руку – не поднялась, скрученная и ослабленная онемением. Что ж, можно – подбородком, а потом – на колени.
Рвал кожу лица, продвигаясь телом и душой выше, выше. Миллиметры, сантиметры позади. Закрепился на коленях. Зубами – в задвижку. Дверь с утробным скрежетом, как с рычанием, помалу стала отъединяться от стены и тьмы. Миллиметр, ещё чуток, ещё крошку. Наконец, в щель пахнуло свежестью, снегом, смолой. Там – жизнь, там – небо, там – мир людей, с которыми его Мария. Ещё немножко, ещё совсем чуть-чуть, и он тоже окажется в том прекрасном и восхитительном мире людей и неба.
Но знает и смирился – людей и Марию ему уже не увидеть. А до неба хотя и далеко, однако оно всюду: оно и над ямами, и над могилами, и над хорошими и плохими людьми, – всюду-всюду, и всюду оно прекрасно и желанно, в каком бы состоянии ни было. Он должен увидеть небо напоследок. Небо – это то, что связует мир и людей в единое целое; под этим же небом – его Мария. И его душа, освобождённая от ямы, непременно сольётся с душой Марии. И их души будут вместе, пока жизнь не оставит его совсем. А потом – будь что будет. Может – рай, а может – ад. Не нам выбирать.
– Небо.
– Небо…
Уже видно лиловую полосочку ночного ясного неба, горящего звёздами и галактиками. Скорее, скорее из ямы!
Он выбился наружу, на пятачок перед дверями. Но и здесь оказалась своего рода яма – углубление, сени с козырьком от навала-крыши. Помещение тесное, сдавленное с двух сторон, однако – ступенями вверх, а если вверх, то – к небу ближе, к просторам, к Марии, к людям, к жизни.
На первую и вторую ступени вскарабкался подбородком и локтём. И на третью, и на четвёртую удалось взобраться, вернее, дотянуться плечами и грудью. Но – уже нет никаких сил, уже нет никакого дыхания. Затих, уткнувшись лицом в железобетон ступени. Лежал долго, дожидался сил. Но силы не скапливались. Наверное, наступил предел.

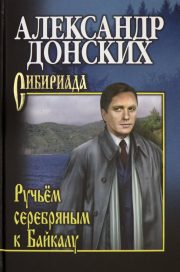
Роман понравился. Задел и порадовал красками свежими и природными. Любовная история необычная, но типическая для рода человечьего, тем более по-особенному интересна и важна. Хвала автору!