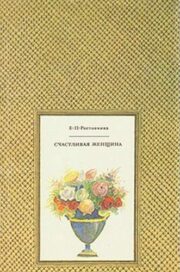А соседство Бориса?.. а эта загородная жизнь, столь коварно способная к ежеминутному сближению?.. а упоительное обаяние весны, природы, незаходимых вечерних зорь, превращающих окрестности Петербурга в какое-то магическое царство, где исчезают границы дня и ночи, понятия о часах, обыкновенном разделении времени, а сила собственных двадцати лет и возвышенной страсти, вскипевшей наконец в груди, долго к тому приготовляемой мечтами и желаниями одинокой юности и девственного, но пылкого воображения!
Борис угадывал наконец любовь Марины. Ей ни в чем не оставалось ему признаться. Все недомолвки, все недоразумения были теперь объяснены, поняты; он знал, как много он любим, и чувствовал все права, которые давала ему эта любовь Марины!
Он уже был вполне счастлив и блажен, когда она еще продолжала бояться и трепетать перед новой судьбой, открывшейся ей в нескончаемой будущности двух сердец, сближенных всеми сочувствиями и всеми созвучиями их односущности. Для него миновала пора томления и борьбы и настала чудная пора взаимности, наслаждения, полного доверия. Для нее прежние слезы, прежние колебания заменились новыми опасениями, новым страхом молвы, света, толков, одним словом, всего и всех. Совесть ее, голубица, трепещущая уже в когтях орлиных, еще торговалась и защищалась, переживая свою непорочность. Всегдашнее принуждение, неизменная осторожность были в тягость простодушной и прямодушной Марине и стоили неимоверных усилий ее откровенному характеру, которому ложь и обман были так противны и противоестественны, что если бы вдруг образ Ненского мог предстать пред ней и решительно спросить ее о тайных ее чувствах, то она бы, не запинаясь и не защищаясь, готова была во всем ему признаться. Малейший шорох, появление каждого нового лица приводили неловкую женщину в страх и трепет, даже когда она одна сидела в своей комнате, с новыми думами и новыми своими ощущениями. Отец, тетки, мадам Боваль, даже горничная и слуги ее, кто бы ни вошел, кто б ни заговорил нежданно вблизи ее, — она вскакивала вся дрожащая и взволнованная, и первые слова ее всегда странно и несвязно путались, не отвечая на вопросы ей предлагаемые. Вместо умной речи, прежде от нее всегда слышанной, теперь от нее получались только робкие и всегда рассеянные выражения. Рассеяние блуждало в потерянном взоре и в притворной улыбке ее. Лихорадочный огонь зажигался беглыми искрами в ее опущенных глазах и вспыхивал ярким румянцем на бледном ее лице. Рука ее дрожала в руке каждого родственника или друга, к которому она простиралась. Марина жила в смятении и трепете, как на горячих угольях. Покой и беспечность стали для нее недоступны и невозможны. Борис шутил над ней и старался ее успокоить, но в тайне еще более дорожил ею, видя всю нежность и всю женственность ее души и ее нрава, понимая, как дорого ей стоили блаженство и их взаимная любовь.
Марина знала и чувствовала, что перед Богом и самой собою она была свободна любить Бориса, не принадлежала никакому другому человеку и никого, стало быть, не обманывала; она знала и чувствовала, что любовь ее свята и чиста перед небом, хотя земля не назвала бы ее такою. Но женское сердце, как люди, одержимые изнурительною болезнию и осужденные на раннюю смерть, предугадывало непрочность своего теперешнего существования и чуяло недоброе впереди. Но как ни велико было ее счастие, оно казалось ей неполным, покуда не было скреплено вечною клятвою. Но как ни страстна была любовь к ней Бориса, все-таки она не смела поверить в ее постоянство, в ее неизменность, в ее вековечность. «Вечность!» — вот первый крик всякой истинной, глубокой любви, когда она взаимна и находит предмет себя достойный!.. Это лучшее доказательство бессмертия нашей души, что она хочет увековечить свою любовь и не довольствуется для нее временем и временным. Когда нам здесь бывает хорошо, то мы вдруг чувствуем потребность перенести наше благо туда, в мир лучший, где не боимся за него ни конца, ни перемены… Потому-то истинная любовь всегда бывает склонна к мистицизму. Потому-то любовь некоторых избранных граничит всегда с какою-то томительною тоскою, это их мучит высокая жажда беспредельного! И потому нередко такие существа помышляют о смерти, когда они чувствуют себя на вершине человеческого блаженства. Одна смерть как порог бессмертия, кажется им возможною после достижения всего лучшего, что только доступно человеку на земле.
Все это переиспытано было Мариною почти в первые дни ее так называемого счастья. Лишь только борьба утихла и короткость взаимности заступила место всех столкновений между двумя любящими, Марина как будто переродилась. Она почувствовала в себе новую жизнь, новую душу, новые способности и новые желания. Все житейское, все прежде знакомое и без того мало ею ценимое, теперь предстало ей в такой ничтожности, в таком виде суетности и пустоты, что она с презрением отвратила от него свой взор и свою мысль. Тогда, измеряя вдруг, как далеко любовь перенесла ее за границы ее прежнего существования, она спросила себя, чем же ей должно будет жить, если когда-нибудь эта любовь от нее отнимется?..
Ей стало страшно, как будто предсмертная мука отозвалась ей ответом на вопрос ее…
Да, любовь высокая, настоящая любовь, без примеси всякой мелочности и всякой суетности, возвышает душу и расширяет ее. Она становится духовным крылом, поднимающим почти до небес земную тварь, очищенную и просветленную. Но где сердца, способные так любить? Много ли насчитаем мы их между теми, которые почитаются любящими около нас?
К счастию Марины, Борис не только понимал ее, но и вполне ей сочувствовал. И в нем любовь была не прихотью глаз, не вспышкою чувственности, но глубокая потребность, единственное назначение молодого и чистого сердца. Он, как мужчина, терзал и мучил обожаемую женщину, покуда не был уверен в ее страсти, покуда она не предалась ему совершенно и не признала его полным владыкою своим. Но лишь только союз двух сердец был заключен и запечатлен первым поцелуем, Борис тоже стал другим человеком, увлекся давно желанным и трудно достигнутым своим счастьем и любил свою Марину столь же страстно, столь же нежно, столь же безмерно и всепреданно, как она сама его любила.
В это первое и сладчайшее время их любви им удалось скрыть ее от всех любопытных и лишних взоров благодаря осторожности их обоих. Марина старалась ничего видимо не изменять в своих привычках и в своем роде жизни, принимала как прежде, выезжала и была одинаково доступна даже скучнейшим из скучных и вечно праздных соседей-посетителей, которые так портят дачную жизнь всем тем, кому судьба пошлет их в кару. По обращению ее с Борисом можно скорее было подумать, что они хуже, чем в ссоре, — в совершенном равнодушии, так мало занималась она им при свидетелях. Лишь графиню Теклу не могли обмануть эти уловки: по незаметным для других оттенкам она поняла и прочитала, что происходило в сердцах двух любовников. Борис часто казался расстроенным и вместе довольным, Марина была в замешательстве и рассеянии; графине более ничего не нужно было, чтоб не иметь ни малейшего сомнения. Она тоже молчала и говорила себе втихомолку: «так написано!»
Но если Борис и Марина не изменяли себе, то им изменяли, и тем легче, что они не подозревали никаких враждебных нападений. Горская — эта тетка Марины, которая так хлопотала о заключении брака племянницы с двойною целью, во-первых, сбыть ее с рук, а во-вторых — устроить у нее для самой себя и своих знакомых приятелей открытый дом, где ей легко будет затевать на чужой счет и богатые праздники, и блестящие удовольствия, Горская, постаревшая и подурневшая с прибавлением трех-четырех лишних годов, в последнее время не могла жить без Марины и преследовала ее своим расположением и своею короткостью. Для многих родство есть только прекрасный и неоспоримый предлог тиранить людей, навязывать им свое присутствие, свои мнения, свои советы, свое покровительство. Ведь не даром же так давно и так часто говорится на всевозможных языках: «Боже мой, спаси нас от друзей наших, от врагов уж мы сами убережемся!» Это знак, что везде люди равно терпят от так называемых своих и что эти свои первые их недоброжелатели всегда под рукою, когда дело идет к разрушению их желания или к нарушению их тайны. Где чужого легко удалить и оставить в неведении, там свой непременно вкрадется и узнает все то, что хотят скрыть или о чем нужно умолчать. Чужие видят вас в наряде и, так сказать, наготове; они судят о ваших годах по лицу вашему, по благоприятной наружности; свой непременно откроет им, в каком году вы родились, пересчитает ваши лета и, буде только возможно, прибавит вам хоть несколько месяцев, из участия! Чужие говорят вам, что у вас хороши волосы, или зубы, или цвет лица; свои объясняют, что у вас парик, не то накладка, или что вы красите волосы, носите фальшивую челюсть, румянитесь или даже белитесь. Чужие поздравляют вас с вашим богатством, с благоустройством вашего дома и имения, с красотой вашей дочери; свои начнут жалеть о расстройстве ваших дел, о бессовестности вашего управителя, который вас обкрадывает, а еще более о том, что за вашею дочерью нет приданого и что, следовательно, для нее нельзя ожидать хорошего жениха. Для женщин свои еще опаснее, особенно когда они бывают оне и к антагонизму, естественно внушаемому им родством, присоединяется еще чувство зависти, никогда не дремлющее между женщинами. Если Горская перестала думать о всяком состязании с прекрасною племянницею, пятнадцатью годами ее моложе, то все-таки не могла она перестать ей завидовать, и каждое преимущество, каждое качество Марины было ей, как говорится, острый нож в сердце. К тому же, с тех пор, как исключительное чувство завладело всем существом и всеми помыслами молодой женщины, она понемногу отставала от шумных удовольствий, и, еще не переставая исполнять того, что так повелительно называется светскими обязанностями, состоящими в частых визитах и посещениях, умела уже отговориться от лишнего выезда в театр или концерт, от устройства пикника или катанья, чтоб оставаться дома, свободной и одной, то есть с Борисом. Это самое очень не нравилось Горской, привыкшей рассчитывать на общество блестящей Марины, чтоб ездить с нею в ее ложи, распоряжаться и угощать на ее праздниках и еще более, чтоб являясь с нею, пользоваться везде окружающими ее сопутниками и, за неимением собственных поклонников и обожателей, казаться не совсем оставленною между мужчинами, искавшими чести и удовольствия разговаривать с Мариною. Этот расчет, общий многим женщинам на возрасте, объясняет отчасти многие связи дружбы и короткости между дамами различных лет и, по-видимому, во всем совершенно разных и противоположных. Чем менее Марина являлась в свете, тем ничтожнее, тем незаметнее без нее казалась там Горская; вот почему последняя не могла corласиться на ее отсутствие и всячески старалась увозить и вывозить ее против ее воли. Раздраженная сопротивлением, тетка стала раздумывать, а потом разыскивать, почему бы племяннице вдруг полюбить домашнюю жизнь без гостей и шума? Раза два, когда Марина сказывалась больною и спущенные шторы служили предлогом к непринятию посторонних у ее подъезда, Горская забегала навестить больную — и всегда заставала ее милее и одушевленнее обыкновенного, либо беседующую с Борисом, при мадам Боваль, либо ходящую по комнатам с видом нетерпения, изобличавшим тревожное ожидание, — этого достаточно было! — Горская догадалась, что Ухманский влюблен в Марину, за нею ухаживает, принят благосклонно; она ужасно рассердилась, испугалась, оскорбилась — и замучила две упряжки лошадей, разъезжая по островам, по Охте, Черной речке и Петергофской дороге, чтоб всем и везде рассказать о неимоверном происшествии.