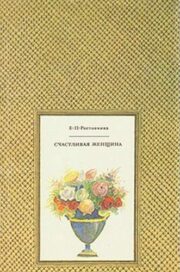Тогда графиня Войновская объявила им, что она оставляет их и уезжает в свои австрийские поместья. Напрасно старались оба удержать ее. Напрасно Марина, с суеверием сердца, научившегося в горе верить всем приметам и всем влияниям, упрашивала Теклу остаться с нею, ей на счастье. «Нет, дитя мое! — отвечала графиня, с улыбкой целуя ее прекрасный и прояснившийся лоб, — нет! теперь я не нужна тебе, я успокоена на твой счет, оставляю тебя на руках того, кто заменяет тебе собою всю вселенную! Меня призывают другие заботы, другие дела, свои и чужие! С вами мне делать нечего, а я должна действовать, подвизаться, хлопотать, служить делом и словом, когда надо и где надо! Эта жизнь единственная, которая мне доступна, эта деятельность моя настоящая стихия. Без них я пропаду с тоски. Признаюсь даже тебе, что оставаться между вами — двумя счастливцами, смотреть на вашу любовь, на ваше сладкое существование вдвоем, было бы для меня вредно: как знать, какие мысли и сожаления могли бы во мне пробудиться?.. Нет, лучше бежать от них и от вас! Я могу, я хочу, я умею доставлять и желать счастья тем, кого люблю, но видеть его иногда свыше сил моих… Прощай, Марина, Бог с тобой! а для меня лежит другая дорога… Я Марфа, которая „печется и молвит о мнозем“, а ты избрала „благую часть“, пусть только „она от тебя не отнимается!“…»
Когда графиня Текла садилась грустно и молча в дорожную карету, уносившую ее на дальнее поприще ее многосторонней жизни и деятельности, Марина стояла у широкого окна своей комнаты, опершись на руку Бориса, который поправлял на ней шелковую мантилью, чтоб она не простудилась, — Марина, осчастливленная снова своею и его любовью, глядела ласково вслед отъезжающей и посылала ей рукой и взглядом последнее напутственное прощанье… Текла, подняв голову, обратила взоры свои на окно гостиницы, увидела группу, образуемую смежными головами своих друзей, и вздохнув, махнула курьеру, чтоб он велел скорей трогаться с места. Почтальон громко затрубил в свой медный постгорн… раздалось хлопанье его длинного бича, на улице там и сям высунулись любопытные и англичане (где ж их нет?), чтоб посмотреть, кто приехал или уезжает, — и многосложный герб знатной вдовы еще долго возбуждал догадки и разговоры, пока она катилась по узким, но чистым улицам Гейдельберга.
Кто из вас знает Гейдельберг? Кто, проезжая через него, чтоб из Бадена отправиться во Франкфурт или обратно, потому что Гейдельберг стоит на общем перепутье почти всех прирейнских городков и резиденций, — кто, говорим мы, проезжая, был завлечен и очарован его чудным местоположением, его дивно-картинными окружностями, его чистым, животворным воздухом, а еще более его спокойствием, веселием, довольством, просвечивающимися в малейшей черте, в каждой подробности его миловидной наружности, кто, вместо того, чтоб переночевать и отобедать, как следовало, осмотрев бесподобные развалины старого замка, раздумал ехать дальше, захотел пожить тут, велел отправить лошадей и остался на день, на два, потом прогостил неделю, быть может, еще другую, и принужденный наконец продолжать свое путешествие, поехал с сожалением, оборачиваясь взором и душой к привлекательному местечку и обещая себе снова навестить его, если Бог даст, — только тот поймет, как восхитительно пребывание в этом впрочем второстепенном городке, и только тот может живо представить себе жизнь почти романическую, которую вели себе на свободе Борис и Марина в Гейдельберге. По какой-то феноменальной недогадке, это благодатное местечко ускользнуло от всевидящей спекуляции, принявшей давно на подряд и на откуп все живописные местоположения Германии, все целебные ее ключи, источники, чтоб устроить около них огромные гостилища для праздного богатства странствующего европейского вельможества. Гейдельберг спасся от Беназе и ему подобных учредителей ярмарок тщеславия и притонов рыцарей грабительного изобретения, где заманчивая рулетка и коварный trente-et-quarante соблазняют столько несчастных, опустошают их кошельки и обогащают игорного банкира; в Гейдельберге нет еще ни Тринк-Галле, ни Конверсационс-Гауз, ни Salon des Fleurs[11], ни Казино, — туда не стекаются со всех концов Европы и Америки люди странствующие и люди страждущие, чтоб себя показать, либо на других посмотреть, или сорвать банк удачным ударом и скакать на другие воды, чтоб прокутить там весело свою добычу. Но зато старинно-славный университет и пребывание некоторых светил медицинской науки беспрестанно привлекают в Гейдельберг немецкое юношество различных сословий — эту живую силу, несущую с собою одушевление и движение повсюду, где она проявляется, — да еще несколько богатых семейств высокоблагорожденных фрейгерров и магнатов, у коих находятся настоящие больные, которым нужно и лечиться и дышать здоровым воздухом этого прекрасного края. Оттого-то обилие, чистота и жизнь поражают путника с первого взгляда на Гейдельберг. Хотя туда не достигла еще дороговизна других прирейнских местечек, избалованных возрастающим съездом и пребыванием всех милордов, настоящих и подложных; хотя все нужное для ежедневной жизни относительно очень дешево в Гейдельберге, однако торговая деятельность не оставила его вместе с отбытием двора, и, перестав быть резиденцией, тому гораздо более ста лет, он сохранил собственную деятельность и собственную жизнь. В нем не увидите вы той ужасной нищеты, которая так часто огорчает взоры около всех так называемых Lustor ten (мест веселья). Одежды там опрятны, лица веселы; мещанская аккуратная суетливость и хлопотливость не лишены своей германской поэзии и не кажутся смешными и пошлыми, потому что на них не отбрасывает невыгодной тени никакая резкая противоположность соседнего величия и богатства. Всего лучше можно бы выразить впечатление, производимое Гейдельбергом, сказав, что он ganz gemüthlkh[12].
Сначала, в первые дни своего пребывания, Марина поселилась, как водится, в гостинице Herz-Herzoghurt, выходящей углом на главную улицу и на единственную площадь города. Должно думать, что тут некогда было подворье какого-нибудь монастыря, потому что все комнаты соединены и отделены одним общим коридором и каждая из них походит на келью, с своими глубокими окнами, изразцовою печью и маленьким альковом для кровати. Тишина и безмолвие царствуют в этих кельях, прерываемые только шумом и плеском фонтана, украшающего и оживляющего средину площади. В известные часы эти тишина возмущается мерным стуком многочисленных пешеходов, спешащих и бегущих по звонкому тротуару, потом по лестнице, наконец в столовых нижнего этажа. Это студенты, приходящие обедать за общим столом, и тогда к стуку приборов и стаканов присоединяется их шумный и веселый говор, их переклички, споры, перебранки, хохот, песни, иногда безумные пляски — все, чем выражается и прорывается кипучая удаль двадцатилетнего возраста. То же самое происходит и в соседних домах, ибо почти каждый из них точно такая же гостиница, где обедают, живут, любят, веселятся и учатся эти птенцы университетского гнезда. Вечером, когда темнота воцаряется над полуспящим городком и особенно если приходится сиять вдохновительной луне, этой любительнице и покровительнице швермерства, вечером вдруг раздаются стройные хоры молодых, звучных голосов и вы слышите знаменитые лидер, которых вкус и славу Германия распространила по всему миру, например, am Rhein, da wuchsen unsere Reben[13] или старинное, любезное gute Nacht, schlaf wohl![14] — которое и теперь еще так дорого красавицам и заставляет биться не одно белокурое сердечко под тафтяным фартучком и кисейною косынкой. Это серенады, которыми студенты чтят и празднуют своих возлюбленных, являясь дружными толпами под их окнами и пронося свои песни из конца в конец города, ко всем красавицам по очереди. Нередко случалось Марине оставаться у окна, внимая этим песням, и видеть, как где-нибудь — обыкновенно на самых верхних этажах, под самой кровлею — открывалось тихо скромное окошечко и высовывалась молоденькая головка, нежно кивая вниз с высоты своей — какая-нибудь Клэрхен или Минхен, которая с гордостью признавала в себе виновницу торжества и с радостью отличала среди поющих своего бурша, в бархатном кафтане, с удалым беретом набекрень. И сердце русской боярыни принималось болезненно трепетать, глядя на всю эту любовь, столь легкую и свободную, на все это счастье, столь доступное и живое… ей казалась завидна участь смиренных швей и кружевниц. Но если нечаянно один голос, грустнее или искуснее других, запевал какую-нибудь мелодию Шуберта, если знакомые и любимые звуки наводили на нее какое-нибудь далеко родное воспоминание… о! тогда горе больной! она всю ночь не смыкала глаз напролет, и молодость ее воскресала и билась в ней мятежно и страстно, возбужденная заразой чужой молодости, свободной и беспечной…