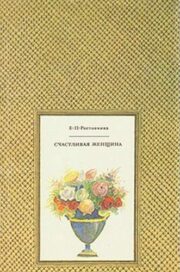Достигли наконец и Ниццы. Но тут вместо обещанного и ожиданного приюта спокойствия путницу нашу и ее провожатых ожидали картины неприятные и противные. В два-три года это местечко, прославленное по Европе как деревня, где каждый домик купается в волнах моря и тонет в зелени цветников и садов, — это местечко преобразовалось и превратилось совершенно. На пространстве прежних садов отстроены узкие, темные, грязные улицы; из каждого строения отделались громадные гостиницы, и все это не населено, а набито англичанами всех сословий, всех состояний и всех возрастов. В каждом доме из трех или четырех рядов окон бессменно выглядывают мужчины и женщины в шляпах и с книгами в руках: это британские островитяне, которым скучно, у которых сплин и которые проводят весь день в этом здании, карауля у окна все, что делается или происходит на улице и всех едущих или проходящих по ней. Шум, пыль, стук колясок, раздирающие вопли бедных ослов, навьюченных многими мисс и леди, перебранка торговок и разных мастеров, справляющих свое ремесло на мостовой, которую они заграждают, все противные подробности провинциальной жизни и суетливости, вот что составляет общий вид Ниццы, вот что находит путник, ищущий тишины, успокоения и загородной пустоты на свежем воздухе. Самый этот воздух заражен и испорчен запахом, распространяемым фабриками, кузницами и кухнями, работающими и стряпающими все вдруг и рядом. Даже то, что недавно было предместьем под звучным именем Мраморного Креста, теперь тоже стало новым городом, соперником старого, грозящим скоро перещеголять его хлопотливостью и многолюдностью своею. А народонаселение, что за противная смесь двух противоположных национальностей! Что за дикари, отставшие от итальянцев и не приставшие к французам, что за крикливые, бранчливые, корыстолюбивые спекуляторы и неотступные просители, продающие вам по вершкам и на вес свой чудный климат, свой благодатный воздух, свое солнце и свое море, и готовые продать вам себя самих с детьми, домами и всем имуществом своим, буде только вы захотите показать им соблазнительное золото и серебро!.. Ниссары одарены особенным голосом, диким и визгливым, говорят особенным наречием, испорченною смесью изуродованных ими двух языков сильных и прекрасных; в их грубых устах итальянские слова теряют всю свою музыкальность и мелодию, а французская фраза лишается своей утонченности, выразительности и гибкости. Как все пограничные племена, это племя лавочников и трактирщиков соединяет в себе все пороки двух народов, к которым оно попеременно пристраивается, не переняв у них ни одного качества, ни одной добродетели. Они отвратительны даже в своем гостеприимстве, справляясь только об одном, когда завидят приезжих: много ли лиц в семействе и много ли займут они комнат, — соображая свой прием с ценою платы, которой они ожидают. Они предпочитают англичан всем прочим путешественникам, потому что, как они поясняют свое предпочтение, — в благоучрежденном английском семействе редко бывает менее нескольких дочерей. Чтоб точнее определить Ниццу, можно сказать, что она вечно открытый рынок, где ни на минуту не перестает мелочная ярмарка, с аккомпанементом всех подробностей крика, шума, брани и нечистоты. Легко понять, как враждебно действовало такое зрелище на слабонервную, грустно настроенную женщину, которой нужно было спокойствие и уединение да полумрак вместо слишком яркого дня, да воздух, напоенный благотворными испарениями лесов, свежим и чистым дыханием растительности. Даже спутники ее не переносили резкой и отвратительной картины, их окружающей. Им бы хотелось опять дальше, вернуться в Италию, но Марина не соглашалась. Особенно утомляла их жизнь в гостинице, переполненной жильцами. Стали искать отдельного дома; к счастью их, один лорд, мнимочахоточный, соскучась двухнедельным пребыванием на даче, нанятой за дорогую цену на три года, уезжал на Гиэрские острова и передавал хорошенький домик в саду, называемый виллою по тамошнему обычаю. Эта Вилла-Серра, заново отделанная лордом, со всеми прихотями и удобствами утонченнейшего комфорта, показалась Вейссе единственным жилищем, способным принять его милую больную, потому что она была не совсем на улице и ближе к морю, чем все прочие квартиры, им осмотренные. Он нанял ее, но перед окончанием условий, попытался еще раз уговорить Марину выехать из Ниццы.
— Нет, — отвечала она, — я слишком устала, мне надо отдохнуть и зимовать здесь. Так было решено прежде, пусть же так и будет! — И в самом деле, силы и воля ее были истощены; их недостало бы на новое странствие. Посоветовавшись с мадам Боваль, Вейссе решился перевозиться в нанятую виллу, но сердце его стеснилось невыразимо грустным и беспокойным чувством. Его тяготило небо Ниццы, как оловянная крыша, не дающая ему вздохнуть свободно; он был сам не по себе и не умел себе объяснить, почему.
В таком расположении были все они, когда надлежало им переправиться на новоселье. Ясное ноябрьское утро проливало отрадную теплоту на приморский городок, солнце грело и оживляло весь этот мир страждущих и скучающих: предложено идти пешком до Виллы-Серры, отстоящей менее чем на три четверти версты от оставляемого отеля. Марина оперлась на дружескую и твердую руку Вейссе, а горничная ее повела чуть видящую мадам Боваль. Они миновали площадку, около которой построены все громадные отели-гостиницы и где всегда воет и ревет морской ветер, томительный и сухой выходец африканских песков; они вошли в главную улицу предместья, подвигаясь медленным шагом, как вдруг имя Марины, произнесенное по-русски, заставило всех их остановиться. Перед ними стояла молодая женщина, которая с изъявлением величайшей радости бросилась целовать руки Марины и приветствовала бессвязными восклицаниями. Изумленная Марина узнала горничную своей приятельницы, княгини Мэри. «С кем ты здесь?» — спросила она. — «Как с кем, ваше превосходительство, да с их сиятельством…» И когда Марина стала ее расспрашивать далее с любопытным удивлением: «Боже мой! — вскричала она, — так вы ничего не знаете?.. Моя бедная барыня!.. Пойдемте, сударыня, ради Бога пойдемте к нам; вы ее увидите… я всего не расскажу…»
Вне себя и почти не веря, что она увидит Мэри, которую предполагала в Петербурге, Марина услала вперед на свою дачу гувернантку и девушку, и следовала с Вейссе за горничною своей приятельницы, не переставая ее расспрашивать о причине их приезда. Но после порыва первой радости, при нечаянной встрече с одноземцами, горничная уже пришла в себя и грустно, нескладно отвечала на вопросы, так что ничего нельзя было заключить из слов ее. Следуя все по той же улице, они скоро приблизились к одинокому дому, стоявшему посередине двора. Окна нижнего жилья были открыты и через них виднелись обыкновенные англичане, но наверху большая часть окон была заперта зелеными ставнями, а у других были приделаны деревянные решетки, не мешающие проникать воздуху и свету, но довольно высокие, чтоб стоящие у них не могли упасть. Из этого верхнего этажа вылетали невнятные и странные звуки женского голоса; то было не пение, не чтение, не разговор, а какое-то безостановочное роптание, похожее на приговаривание деревенских баб над покойниками. Взошли на лестницу, горничная постучалась в дверь, из внутренних покоев послышались мужские шаги и пожилой человек, повернув ключ в замке, тихо отпер, подавая входящим знак не шуметь. Все казалось необыкновенно и странно в этом доме; отсутствие прислуги, появление незнакомого лица, причитывание, слышанное из отдаленной комнаты… Сердце Марины забилось боязливо, привыкнув ожидать всегда нехорошего. Горничная привела спутников своих к другой двери, тоже запертой, но имевшей наверху отверстие, заделанное стеклянною рамою и зеленою занавескою. Она осторожно приподняла край занавески и пригласила пришедших посмотреть… Среди довольно простой, но чистой и веселой комнаты, на полу, устланном ковром, сидела женщина с распущенными волосами и качалась со стороны на сторону, размахивая руками удивительно нежными и прозрачными, полудекламировала, полураспевала невнятные слова. Она обернулась, чтоб поднять какую-то бумагу, валявшуюся за нею, и Марина узнала побледневшее, похудевшее, но все еще прекрасное, благородное лицо княгини Мэри.
Она все еще недоумевала…
Доктор, тот самый, который отворил им дверь прихожей, взялся все объяснить. Княгиня сошла с ума! Лишенную рассудка и памяти, но узнающую всех и не потерявшую совсем самопознания, ее отправили за границу, потому что дома, среди родных и знакомых лиц, она доходила до такого исступленья, что боялись в ней неизлечимого бешенства. По-видимому, не существовало никаких побудительных причин к такому ужасному несчастью. Жизнь княгини не переставала быть блестящей и спокойной; она никого не лишалась, никто у нее не умер, не уехал. Среди своего дома и семейства, окруженная лучшим обществом столицы, княгиня со дня на день становилась страннее, молчаливее, непонятнее, сначала впадала в удивительную рассеянность, заговаривалась, хандрила, — и мало-помалу достигла совершенного сумасшествия, от которого никакие пособия и лечения не могли ее избавить. Это случилось вскоре после отъезда Марины; семейство княгини, не желая разглашать ее несчастия и принимая общий совет докторов удалить ее от всего, что ей близко и дорого, доверило ее врачу и послало за границу, когда все думали, что она гостит у тетки в деревне. Горничная со слезами и восклицаниями подтверждала печальный рассказ доктора. Марина не могла надивиться такому неожиданному событию, не могла поверить, чтоб ее кроткая, беспечная и всегда немного суетная Мэри, любящая, по-видимому, только балы и наряды, только веселье и выезды, могла дойти до такого положения. «Ах, сударыня, ведь это все от горя!..» — вскричала горничная сквозь слезы.