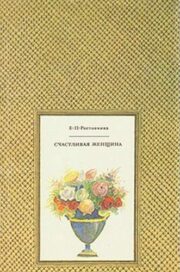Довольно о внешней стороне его, посмотрим нравственную. По редкому исключению среди теперешних общепринятых условий воспитания молодых людей, Борис вырос на руках наставника, каких мало. Вейссе, курляндец по происхождению, космополит по воспитанию, немец по учености и душе, но притом, по странному исключению, парижанин по уму, — Вейссе был единственным преподавателем, хранителем, другом и сотоварищем Борису, которого слабое здоровье не позволило определить ни в военные заведения, ни в университет. Борис был единственный сын богатых людей, у которых кроме того было четыре дочери. Следовательно, все надежды, все заботы семейства были сосредоточены на нем. Гордость родных и желание их видеть сына блестящим и отличным учеником или студентом среди товарищей какого-нибудь общественного курса должны были уступить осторожности. Они оставили Бориса дома и лет до осьмнадцати заботились гораздо более о подкреплении его здоровья и физических сил, чем о развитии памяти и познаний в ущерб всему прочему. Но Борис учился, потому что на то была его собственная охота; развивался, потому что добрый и кроткий Вейссе, полюбивший его как родного сына, незаметно, но постоянно передавал в его юный, восприимчивый ум всю ученость, всю ясность и полноту своего собственного ума, а главное, Борис, никем и ничем нестесняемый и неподстрекаемый, вырабатывался сам собою из себя самого, как живая бабочка из мертвой куколки, как могучее дерево из молодого отпрыска, как все прекрасное и сильное, предоставленное закону благой природы и напутствуемое благоприятными попечениями, ему сродными и полезными. С даровитыми и благорожденными натурами есть особенные условия: чем меньше их воспитывать, тем лучше они выходят. Одну только посредственность и бездарность следует учить и образовывать насильно, чтоб она не оставалась навеки в своем невежестве и своей грубости. Блестящий ум или первоклассный талант сами найдут, сами укажут себе приличные путь, даже проложат, если обстоятельства им враждебны или неблагоприятны.
Когда Борису минуло осьмнадцать лет, отец и мать пригласили первых профессоров столицы заниматься с ним дельно и последовательно. В один год такого занятия он успел более, чем сверстники его, переходящие из лекции на гулянье и с бального шума на студенческую скамью. Борис выдержал кандидатский экзамен.
Его послали путешествовать. Разумеется, Вейссе поехал с ним, и дружеские отношения двух товарищей-сопутников заменили между ними прежние отношения ученика к наставнику и наоборот. Почтение Бориса к Вейссе нисколько не стесняло свободы его прежнего питомца; немец продолжал, как нянька, охранять его здоровье и покой. Проездивши два года по Европе, Борису захотелось узнать и Россию, нашу молодую мать, которая так проста и однообразна, но зато так сильна и свежа в своем единстве. Потом, повинуясь желанию родителей, он вступил в службу, но в дипломатическую, и отправленный курьером к одному из поверенных наших при германских княжествах, остался там на несколько лет.
Вот простая повесть Бориса, до минуты встречи его с Мариной. Чтоб ее дополнить, следовало бы сказать: любил ли он, сколько раз, когда и где, кого и как, и долго ли или нет, — все то, что составляет биографию сердца молодого человека, дожившего до двадцати пяти лет. Но этого-то именно мы не можем обстоятельно рассказать, по той причине, что Борис, многого требуя и многого ожидая от любви, не находил ее до этой поры. И если он и шалил случайно при беглых встречах, легко попадающихся каждому молодому, пригожему и богатому человеку, особенно путешественнику, если он гонялся за удалой гризеткой Латинского квартала в Париже и отчаянно вальсировал с нею на загородных балах в саду Большой Хижины и Мабиля, или шармировал (сентиментальничал) с белокурою и голубоокою немочкою у берегов Рейна, романсовал с путешествующими варшавянками и позволял себе иногда far l'amore[7] с пламенными трастверинками в Риме, или смуглыми пляшущими тарантеллу и салтареллу неаполитанками в Сорренто, то это были только мгновенные вспышки молодой крови, скоро забываемые развлечения праздной фантазии, которые занимали Бориса только несколько дней и не оставляли никакого следа в его воображении. Ни душа, ни сердце, ни даже чувство его при том не были затронуты. Не того нужно было чистым и высоким мечтам русского пришельца; он уезжал, и мимолетные видения легко сменялись и заменялись перед ним, а сердце его оставалось пусто и сиро, и он чувствовал, что счастие и любовь еще впереди!
Две недели не прошли с памятного обоим раута, как Борис и Марина оба знали, оба чувствовали, что они предназначены друг другу. Непреодолимое сочувствие влекло их одного к другому. Все вкусы, все мнения были у них соответственны. Даже все желания, все тайные движения их сердец согласовались без их ведома, и прежде всяких объяснений они понимали один другого. Нельзя было бы найти мужчину и женщину более под пару, более достойных один другого. Ни одна из красавиц, прежде встречаемых Ухманским наяву или на полотне в созданиях великих художников, не могла спорить с стройною, пламенною, чудноокою Мариною, которая как пальма возвышалась блестящим и пышным цветом юга между северных разнообразных красот. Ни один из мужчин, видаемых Мариною, не мог ей так понравиться, как задумчивый, немного бледный Борис, чье привлекательное и аристократическое лицо напоминало ей портреты Байрона в его первую, еще целомудренную молодость. Так было и в умственном отношении. Одна Марина могла понимать вполне глубокую душу и смелый ум Бориса; она одна могла говорить с ним и о современности, его занимавшей, и об искусствах, ему дорогих, ей одной были доступны все стороны мысли его, все обнимающей и все вопрошающей. Словом, они так шли один к другому, так казались каждый на своем месте, когда находились вместе, что свет сам, казалось, понимал их необходимое сближение и одобрял его, стараясь свести их в разговорах или танцах, где каждый из двух должен был выставлять другого во всем его блеске.
Все поклонники Марины Ненской удалились от нее, уступая приближению нового состязателя, всем им опасного.
Все дамы, сколько-нибудь претендующие на исключительное внимание Бориса, перестали его атаковать, чувствуя неравность боя с такою соперницей, какова была Марина.
Да не дивятся читатели такому снисхождению, которое покажется им вне общего порядка вещей и узаконенных привычек света! — Пусть, напротив, подумают они и вспомнят, что в обществе сначала всегда так поступают. Когда обоюдное влечение обнаружится где-нибудь между лицами различного пола, свидетели всегда как будто обрадованы таким событием, дающим пищу разговорам и зрелище праздному любопытству. Сперва как будто все покровительствуют двух занятым, но зато потом, когда свету покажется, что эти двое довольно искренно и глубоко любят друг друга, чтоб пренебрегать всеми прочими, тогда поднимается отовсюду грозная буря преследований, насмешек, клеветаний и нападений: тогда общество начинает торжественно вопиять о возмущенном приличии, об оскорблении нравственности; тогда все, что гадко, старо, глупо, отвратительно, восстанет против того, что молодо, счастливо, любимо и прекрасно, и порицание раздастся единогласно из тысячи уст, осуждающих тех, кому внутренне они завидуют! Да, почти всегда и почти везде свет и общество, а иногда и самые близкие родственники, участвуют в искушении молодой женщины, и право, если мы сказали почти, то это слово здесь совершенно лишнее и поставлено только во избежание могущих возникнуть споров между нами и читателем!
Но когда все и всё казались в заговоре против девственной души Марины и целомудренной ее строгости, она сама, молодая и беззащитная, вступилась за себя и умела себя отстоять.
Право, такие подвиги и такие намерения не редки между женщинами, хотя никто никогда их не ставит им в заслугу. Когда женщина падает, то обвинители против нее находятся легко; но кто знает, сколько усилий истощено ею прежде падения, чтоб удержаться на узкой стезе добродетели и долга, как отчаянно она цеплялась за все подпоры на краю пропасти, по которой скользили слабые ноги ее, кто знает, как долго, мучительно, упорно она боролась, как просила помощи у Бога и людей, и как дорого достается ей это счастье, за которое ее карают и казнят!..
Случается иногда и так, что тот самый, который должен был бы дать ей руку помощи, поддержать и защитить ее женскую слабость, он же и сталкивает ее в бездну. Сколько мужей как бы нарочно ускоряют критический переворот в жизни своих жен, кто ревностию и подозрениями, кто собственною своею неверностию, иные — и это всех виновнее, потому что не сердце, а порок причина их вины, — грубым, жестоким обращением, припадками бешенства и злобы, или какими-нибудь слабостями и наклонностями, возмущающими в женщине все, что природа дала ей нежных и возвышенных чувств!..