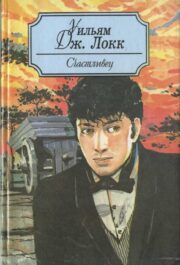Она стояла, вся дрожа и задыхаясь, перед старшей сестрой, охваченная стихийной страстью; а когда с пылкой от природы женщиной такое случается, она становится несдержанной в речах и беспощадной в обвинениях. Зора впервые в жизни столкнулась с подобным явлением. Она была ошеломлена потоком обвинений и могла только спросить, довольно некстати:
— Почему не может?
Эмми задышала прерывисто и тяжело. Искушение сказать всю правду охватило ее снова, и на этот раз она не устояла. Пусть Зора знает — сама виновата, что довела ее до этого. Она отворила дверь.
— Мадам Боливар! — И когда француженка вошла, указала ей на коляску. — Унесите беби в спальню. Там ему будет лучше.
— Хорошо, мадам, — ответила мадам Боливар и взяла ребенка. Когда она вышла, Эмми указала на закрывавшуюся дверь и коротко бросила:
— Вот почему.
Зора испуганно вздрогнула и уставилась на дверь.
— Эмми, что ты хочешь этим сказать?
— Сейчас узнаешь. Я не могла говорить, пока он был здесь. Мне все бы потом казалось, что он все слышал, а я хочу, чтобы он уважал и любил свою мать.
— Эмми! — вскрикнула Зора. — Эмми, что ты такое говоришь? Твой сын не стал бы тебя уважать, если бы он знал? Ты хочешь сказать?..
— Да. Это. Септимус обвенчался со мной только формально, чтобы дать нам свое имя. Потому мы и живем врозь. Теперь ты знаешь?
— Боже мой!
— Помнишь последний вечер, который я провела в Нунсмере?
— Когда ты упала в обморок?
— Да. Я прочла в газете объявление о женитьбе того, другого…
Она коротко и вызывающе рассказала свою историю, не требуя сочувствия, единственно ad majorem Dei gloriam[76].
Зора растерянно смотрела на нее, как человек, который шел охотиться на кроликов и неожиданно наткнулся на льва.
— Почему же ты не сказала мне тогда — прежде, чем…
— Разве ты когда-нибудь поощряла меня быть с тобой откровенной? Ты смотрела на меня, как на маленькую девочку, гладила по головке и не интересовалась моими делами. А я боялась тебя — до смерти боялась. Теперь это звучит довольно глупо, но на самом деле так было.
Зора теперь уже не возражала. Она сидела тихо, глядя на опустевшую коляску, стараясь освоиться с новыми и неожиданными для нее истинами. И только шептала:
— Боже мой! Как я была глупа…
Эти слова отозвались в ее ушах чем-то знакомым и словно издевающимся над ней. Где она их слышала еще недавно? — И вдруг Зора вспомнила и посмотрела на Эмми уже без всякой гордости.
— Ты что-то говорила о Клеме Сайфере — что он пожертвовал ради меня состоянием. В чем дело? Говори уже все до конца.
Эмми опустилась на низенькую скамеечку у камина, на которой сидела, когда Септимус рассказывал ей об этом, и повторила его рассказ в назидание Зоре.
— Ты говоришь, он посылал за Септимусом сегодня утром? — почти шепотом спросила Зора. — Думаешь, он знает о вас обоих?
— Может быть, и догадывается, — Эмми было известно о нескромности, которую допустил Эжезипп Крюшо. — Септимус, конечно, не говорил ему.
— Спрашиваю потому, что со времени моего возвращения он смотрит на Септимуса, как на какое-то высшее существо. Я начинаю видеть вещи, которых не замечала раньше.
Наступило молчание. Эмми, держась за решетку и склонив голову, смотрела куда-то в сторону. Не поворачивая головы, она снова заговорила:
— Ты можешь меня презирать, но не отворачивайся теперь от меня — ради Септимуса. Он любит мальчика, как своего собственного. Как бы плохо я ни поступила, мне пришлось много перестрадать за свою вину. Я была пустой, неуравновешенной, беспринципной девчонкой. Теперь я женщина, и благодаря ему — хорошая женщина. Достаточно дышать одним воздухом с таким изумительно добрым и чутким человеком, чтобы стать лучше. Нет другого человека на земле, который мог бы сделать то, что сделал он, и так, как он. Как же мне его не любить? Как не мучить и не терзать себя из-за него? И в этом моя кара.
Наступившее молчание было прервано сдавленным рыданием: Эмми удивленно обернулась и увидела, что Зора плачет, уткнувшись лицом в диванные подушки. Она была поражена. Величественная самоуверенная Зора плачет, как какая-нибудь глупая девчонка — плачет по-настоящему, рыдая и всхлипывая… Эмми неслышно пересекла комнату и опустилась на колени перед диваном.
— Зора, милая!
Зора, жаждавшая любви и ласки, обняла ее, и обе сестры блаженно поплакали вместе. Так и нашел их, обнявшихся, Септимус, который вскоре вернулся пить чай, как ему было велено.
Зора поднялась, все еще с мокрыми глазами, и накинула мех.
— Ну я ухожу — оставляю вас вдвоем. Септимус! — Она взяла его за руку и отвела в сторону. — Эмми мне все сказала. О, не пугайтесь, милый! Я не стану вас благодарить. — Она засмеялась, но голос ее прервался. — Иначе я опять разревусь, как дура. Когда-нибудь в другой раз. Я только хочу сказать: не думаете ли вы, что вам будет лучше — и уютнее, и удобнее, — если вы позволите Эмми полностью взять на себя заботу о вас? Она умирает от любви к вам, Септимус, и уверена, вы будете с ней счастливы.
Зора стремительно вышла из комнаты, и, прежде чем оставшиеся успели прийти в себя, входная дверь за ней захлопнулась.
Эмми смотрела на Септимуса, и в ее голубых глазах был страх. Она что-то пролепетала о том, что не стоит обращать внимания на слова Зоры.
— Но это правда? — перебил он ее.
Немного отвернувшись, она сказала:
— По-вашему, это так удивительно, что я вас полюбила?
Септимус запустил обе руки в волосы и взъерошил их до невероятности. Произошло самое удивительное, самое необычайное, что только могло случиться в его жизни. Нашлась женщина, которая его полюбила. Это опрокидывало все предвзятые взгляды и представления Септимуса относительно его места во Вселенной.
— Конечно! Так удивительно, что у меня голова идет кругом. — Он подошел к ней вплотную. — Вы хотите сказать, что любите меня, — голос его дрогнул, — как если бы я был обыкновенным человеком?
— Конечно, нет! — воскликнула она, смеясь и плача. — Если б вы были обыкновенным, разве я могла бы вас любить так, как люблю?
Ни один из них не мог потом вспомнить, как это вышло, что она очутилась в его объятиях. Эмми клялась, что не бросалась ему на шею; врожденная же робость Септимуса не позволяет предположить, что он первый обнял ее. Как бы то ни было, она долгое время, дрожа от волнения, лежала в его объятиях, а он целовал ее губы, отдавая ей все свое сердце в этих поцелуях.
Потом они сидели вместе на маленькой скамеечке.
— Когда мужчина так поступает, — говорил Септимус, осененный блестящей идеей, — я полагаю, он должен просить женщину стать его женой.
— Но ведь мы уже муж и жена! — радостно воскликнула она.
— Боже мой, а ведь и в самом деле, я и забыл. Как это удивительно, не правда ли? Знаешь, дорогая, если ты ничего не имеешь против, я, кажется, еще раз тебя поцелую.
23
Зора пошла в отель, где остановилась, и тут же, в холле, не снимая шляпы и меховой горжетки, написала длинное письмо Клему Сайферу; затем, подозвав лакея, она велела ему тотчас же отнести письмо на почту. Когда он ушел, Зора немного подумала и послала телеграмму. А еще поразмыслив, спустилась вниз и позвонила Сайферу. Мужчина первым делом попытался бы позвонить по телефону, потом послал бы телеграмму и уже после нее — обстоятельное письмо. Но женщины все делают по-своему.
Сайфер был в своей конторе. Да, он скоро освободится, минут через двадцать, и затем помчится к ней, — если не на крыльях, то, во всяком случае, самым скорым в Лондоне способом.
— Имейте в виду, что у меня к вам совсем особое дело, — предупредила Зора. — Так я жду вас. До свидания!
Она повесила трубку, прошла наверх, к себе, умылась, чтобы уничтожить следы слез, и переоделась. В течение нескольких минут она внимательно и немного тревожно разглядывала себя в зеркале с бессознательным и новым в ней кокетством; потом уселась в кресло у камина и, успокоенная относительно своей внешности, углубилась в созерцание внутреннего мира Зоры Миддлмист.
Никогда еще с тех пор, как стоит свет, ни одна женщина не низвергалась так стремительно со своего пьедестала. Ни следа высокомерия не осталось в Зоре. Она казалась теперь себе такой ничтожной, пустой и недогадливой. Уехала из презираемого ею Нунсмера, где никогда ничего не случалось, чтобы, странствуя по свету, увидеть настоящую жизнь, и, вернувшись, нашла, что она-то и не жила все это время настоящей жизнью, а Нунсмер жил, и много за время ее отсутствия в нем произошло такого, что глубоко затрагивало ее лично.