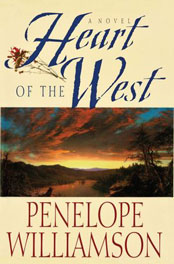– Но я не сожалею, не сожалею! – выкрикнула Клементина. Но не заплакала.
* * * * *
– Я не хочу молиться. – Молитва означала сожаление, означала раскаяние.
Матрас прогнулся, а сюртук отца зашелестел, когда преподобный пошевелился и сел на постель рядом с дочерью. Клементина лежала на спине, вытянув руки поверх одеяла. Мама наложила мазь на ссадины и перевязала ладони, но даже ее слезы не заставили боль стихнуть. Однако девочка не плакала. Она дала себе обещание, что больше никогда не заплачет.
Отец заерзал и вздохнул.
– Дитя, дитя. – Он редко прикасался к ней, но сейчас накрыл щечку большой рукой. – Я все делаю из любви к тебе. Чтобы ты смогла вырасти чистой в глазах Бога.
Клементина посмотрела отцу в лицо. Она не верила ему: ведь не мог же он действительно любить ее, когда она оставалась нечестивой и полной дикости и ничуть об этом не сожалела?
– Я не хочу молиться, – повторила она.
Отец наклонил голову. И молчал так долго, что ей подумалось: он молится про себя. Но затем преподобный сказал:
– Тогда поцелуй меня на ночь, дочь.
Он склонился над ней, придвинув лицо так близко, что Клементина почувствовала острый запах его одеколона и крахмала на рубашке. Она приподняла голову и губами коснулась мягких черных усов на щеке отца. Опустилась на подушку и неподвижно лежала, пока он не вышел из комнаты, после чего принялась тереть рот тыльной стороной ладони и терла, пока губы не стало жечь.
Клементина вытащила из-под подушки потрескавшуюся и помятую сувенирную карточку. Снова и снова пыталась разгладить ее кончиками забинтованных пальцев. На нее смотрело улыбающееся лицо ковбоя. Ковбоя в рубашке с бахромой и широкополой шляпе, раскручивающего над головой петлю лассо, большую как стог сена.
Клементина глядела на него так долго и пристально, словно надеялась, будто приложив еще капельку усилий, сумеет как по волшебству вызвать к жизни этого мужчину, веселого и бесшабашного.
* * * * *
– Теперь ты взрослая женщина.
Так сказала мать в день, когда Клементине исполнилось шестнадцать. В то утро ей позволили заколоть волосы на затылке в большую гульку. Взрослая женщина. Она посмотрела на свое отражение в зеркале туалетного столика со скошенной кромкой, но увидела лишь себя. «Больше никаких чепчиков!» – внезапно улыбнувшись, подумала Клементина. Сморщив нос, она подняла головной убор, который надевала еще вчера, и бросила его в огонь. Больше никаких чепчиков. Взрослая женщина! Клементина повернулась на носочках и рассмеялась.
То был день ее рождения, он же канун Рождества, и Кенникутты собрались в фотогалерею, чтобы сняться на портрет. Походу придали вид семейной прогулки, и отец сам правил новой черной двухместной каретой. Белые шапки покрывали крыши и верхушки деревьев. Зимний воздух щипал Клементину за нос, колол щеки и пах праздниками: горящими дровами, жареными каштанами и хвойными ветками.
Они проехали парк Коммон, где по покрытым коркой льда дорожкам катались на санях дети. Одна девочка, должно быть, зацепилась за корень дерева, поскольку ее санки внезапно остановились, а она сама продолжила катиться кубарем, маленьким вихрем из голубых юбок, красных чулок и летящего снега. Ее пронзительный смех отражался от плоского зимнего неба, и, о, как же Клементине хотелось быть этой девочкой. Она желала этого с невыносимой болью, которая давила на сердце, словно груда камней. Клементина никогда не ездила на санках, никогда не каталась по льду на пруду Джамайка и не играла в снежки, а теперь стала слишком старой для этого, стала взрослой женщиной. Это заставило Клементину задуматься, чего она уже лишилась в своей жизни и чего лишается сейчас.
Отец остановил карету, чтобы пропустить повозку с пивом, пересекающую дорогу впереди. В полукруглом окне углового дома в кольце желтого света газовой лампы стояли женщина и мальчик. Мать положила руки на плечи сына, и они вместе наблюдали, как падает снег. Сзади к ним подошел мужчина, и женщина подняла голову, оборотив к нему лицо. Клементина затаила дыхание, ей показалось, что мужчина собирается поцеловать любимую прямо там, в окне, чтобы увидел весь мир.
– Клементина, ты пялишься, – одернула ее мать. – А леди не пялятся.
Клементина откинулась на кожаную спинку сиденья и вздохнула. Душа саднила от беспокойной тоски. Ей не хватало чего-то в жизни, не хватало, не хватало, не хватало... Она подумала, что лучше уж вовсе не иметь сердца, быть безжизненной и сухой как ветки зимой, чем мучиться от этого постоянного неизбывного стремления к чему-то неизвестному, безымянному. Недостающему.
Фотогалерея Стэнли Эддисона находилась на верхнем этаже роскошного особняка на Милк-Стрит. Мистер Эддисон не относился к респектабельным джентльменам. Он носил полосатый жилет слишком яркого зеленого цвета и бумажный воротничок, а его усы были настолько тонкими, что казалось, будто их нарисовали чернилами на коже под носом. Но Клементина едва обратила внимание на фотографа, так как была загипнотизирована плодами его искусства: фотографиями и ферротипами, развешенными на бледно-бордовых стенах.
Клементина по кругу обошла комнату, изучая каждый портрет: мужчин серьезного вида в полных важности позах, актрис и оперных певцов в причудливых костюмах, семей, состоящих из матери, отца и целой кучи детей... Она остановилась, и с губ сорвался тихий возглас восхищения.
На фотографии красовался ковбой. Настоящий, а не выдуманный персонаж с сувенирной открытки. Он облачился в украшенные серебряными гвоздиками кожаные штаны и жилет с бахромой, а на шее вычурным узлом повязал шарф. Ковбой сидел на стоге сена. Ноги в сапогах были напряжены и расставлены по сторонам, будто ему привычнее сидеть верхом на лошади. С колена свисало свернутое кольцом лассо, а поперек лежало ружье. Похоже, мужчина имел пристрастие к насилию, поскольку к ремню на талии крепилась пара шестизарядных револьверов с перламутровыми рукоятками. Густые и длинные усы ковбоя свисали с уголков рта, скрывая очертания губ, а низко опущенные поля шляпы затеняли глаза. Он казался диким и молодым, жестоким и благородным и таким же неприрученным как земля, по которой бродил.
Клементина повернулась к топчущемуся на месте мистеру Эддисону и адресовала ему целый шквал вопросов. Ей хотелось узнать, как создают фотографии. Хотелось самой сделать такую же. Она проигнорировала сердитые взгляды отца, а также не заметила, как покраснел и стал заикаться мистер Эддисон, когда повел их в помещение, которое называл фотокомнатой, где и предложил позировать для портрета.
Клементине это святилище показалось даже более увлекательным, чем галерея. В крыше было прорезано огромное окно, отчего комната буквально омывалась светом. Вдоль стен располагались раскрашенные ширмы, изображающие раскинувшиеся сады и украшенные колоннами террасы; здесь была даже египетская пирамида. А среди ширм стояли несколько зеркал различных размеров и громадный лист олова на колесиках.
Фотоаппарат — большая деревянная коробка с похожей на аккордеон гармошкой — располагался на тележке. Клементина обошла устройство, пытаясь разобраться, как оно работает. Она послала мистеру Эддисону застенчивую и робкую улыбку и спросила, можно ли ей посмотреть на мир сквозь большое немигающее око фотоаппарата.
Мистер Эддисон зарделся и чуть не споткнулся о собственные ноги, когда показывал девушке, куда именно смотреть. Клементина прижалась глазом к отверстию в верхней части коробки и увидела преподобного Кенникутта и его жену.
Позади них была растянута парусиновая ширма с нарисованной уютной гостиной. Отец сидел на красном бархатном стуле, отделанным бахромой, а мать стояла рядом с ним. Ее рука лежала на плече мужа, и он удерживал ее на месте ладонью, словно боялся, что жена бросится прочь из комнаты, если ее отпустить. Образ дополняла пальма в горшке — ее веерные листья осеняли головы супругов подобно большому зеленому зонту.
При взгляде на родителей сквозь объектив фотокамеры, они показались Клементине отодвинутыми на огромное расстояние, словно не принадлежащими этому миру. Или нет — словно они-то остались в этом мире, а она сама отправилась куда-то за его пределы. Отец сдвинул ноги, похоже, чувствуя себя неуютно. Пальмовые листья отбрасывали полосатые тени на лицо матери.
Клементина знала, что похожа на маму. У них были одинаковые белокурые волосы и темно-зеленые глаза, и обе напоминали хрупких фарфоровых куколок. Подрастающая женщина, взрослая женщина. Она попыталась увидеть в лице матери, какой станет сама. Клементине хотелось задать своему прототипу много вопросов. «Почему ты смеялась, когда доктор сказал, что тебе больше нельзя иметь детей? Хотела ли ты когда-нибудь стоять у окна и поднять голову, чтобы тебя поцеловал мужчина на виду у всех? Есть ли внутри тебя незаполненные пустоты, жгут ли тебя страстные желания, названия которым ты не знаешь?» Клементина жаждала сделать фотографии лица мамы и тщательно изучить их, чтобы найти ответы.