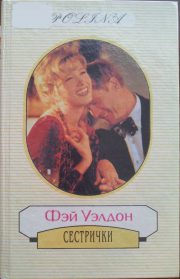— Надеюсь, он не стыдится тебя?
— Нет. Если он кого и стыдится, то их, — заявляет Эльза невинно. — А поскольку я Виктору не жена и не собираюсь ею стать, то и Уэнди я не мачеха. Пора покончить с семейными «титулами» — жена, муж, свекровь, теща, мачеха, зять, падчерица… конца края нет. Одни эти слова уже навлекают на нас неприятности.
— Ты можешь пренебречь этими условностями, — говорит Джемма. — Ты можешь вообще обойтись в жизни без единой бумажки — без брачного свидетельства, без свидетельства о рождении, без завещания, без закладных документов, без банковского счета, но люди, связанные этими бумажками, останутся. И останутся прежними. Спасенья нет.
Джемма подзывает Джонни и что-то говорит ему. Эльза не слышит, но хозяйка уже велит гостье следовать за ней. Она хочет показать, что с майонезом произошла катастрофа. Масляная капельница не сработала, и соус расслоился. Но спасти его еще можно, поэтому Джемма обращается к Эльзе:
— Ты не могла вместо меня взбить его рукой? У меня такие слабые запястья стали. Занятие, конечно, скучное, но я буду развлекать тебя своими сказками.
И Эльза садится к столу и начинает сначала медленно, потом быстрее, по капле добавляя масло, взбивать желтки. Эльза старается работать аккуратно, ибо вся утварь вплоть до салфеток простерилизована. А Джемма, то ли проклятая, то ли святая, сидит, улыбается, перебирает свои дешевые бусины и говорит, говорит…
1966-й год.
Боже, как давно это было.
Мистер Ферст ретировался в свой кабинет. Прекрасное настроение улетучилось. Джемма взяла нож и воткнула его в желто-зеленый стол, так что пластмассовые брызги взметнулись вверх. И еще раз воткнула, еще раз ударила, жалея, что перед нею бездушный стол, а не живая плоть. Чья плоть? Ее собственная? Или мистера Ферста? Или самого Леона Фокса? Джемма вряд ли знала. Она кромсала плоть всего рода человеческого, который ненавидела и который хотела уничтожить. Неужели никто не остановит ее?
Сомнительно. Где же ты, старая Мэй? Никого. Еще удар! Режь, коли. Коли, режь.
А ведь лезвие могло сломаться и вонзиться ей в глаз, ослепить навек… Вот какова была вера Джеммы в свою неуязвимость! Она даже позволяла себе подобные страшные мысли. Но где же мистер Фокс? Джемма мечтала о нем всю ночь и надеялась, что мечты ее не напрасны. Неужели для Фокса они не значат ничего?
Где ты, мистер Фокс? Джемма так ждет, так хочет тебя. Ее желание гремит на всю Вселенную.
Нецелованная, жаждущая, я жду тебя. Снизойди. Смилуйся. Я пустой сосуд вечности.
Эй, Фокс, ты слышишь? Или оглох? Где ты?
Спрятался в своем поднебесье, зарылся в джунглях пентхауза, смотришь теннис по телеку, спрятанному в шелковых зарослях цветов и занавесей? Или спишь бездыханный после вчерашней гулянки, или вообще еще не вернулся.
Ты предатель, Фокс.
— В разрушении нет ни грамма красоты, — раздался позади негромкий голос.
Мистер Фокс!
— Никогда не порти вещи, Джемма. Цени их. Страсти улягутся, а рубцы будут вечно напоминать о черных глубинах твоей натуры. На человеке рана заживает, на вещах — нет. Тебя огорчил мистер Ферст?
— Да.
— Меня он тоже огорчает, но в его руках все финансы и кредиты, поэтому ради меня смирись с ним. Только не стоит подолгу оставаться с ним наедине. Подлая сущность и дурной характер заразны более, чем инфекционная болезнь. А уродство только усиливает опасность. Общество Ферста чревато самыми неожиданными последствиями, Джемма. Посмотри, как свирепо ты набросилась с ножом на этот милый, несчастный столик. Уверен, еще вчера ты и помыслить не могла, что тебя захватит такая черная ярость.
Джемма медленно подняла на шефа сияющие глаза. Своей изысканной, ухоженной рукой мистер Фокс коснулся ее щеки.
— Джемма, — произнес он. — Джемма. Чудесное имя. Я рад, что мы нашли тебя, точнее это сделала мисс Хилари. Она очень внимательна к нам и знает наши нужды. Теперь, будь добра, покорми попугаев, налей им свежей воды. Только не из крана. Они предпочитают родниковую воду в бутылках из Миди. Они разборчивы от природы, без этого потускнеет их оперение. А в полдень — не раньше и не позже — поднимись ко мне в пентхауз, Джемма, я кое-что хочу продиктовать.
— Со стенографией у меня не очень хорошо.
— Рад слышать это и нисколько не удивлен. Язык — слишком красив, слишком величествен, слишком тонок в своем естественном виде, чтобы деликатная натура могла с легкостью уродовать его, превращая в каракули. На совести мистера Питмана большее преступление перед человечеством, чем на совести Чингис-хана.
— Да, мистер Фокс.
Чингис-хан. Кто такой Чингис-хан?
— Тем не менее, надеюсь, что пишешь ты быстро. Не хочу, чтобы мои слова попусту повисали в воздухе.
— Конечно, мистер Фокс.
— Спасибо, Джемма, прекрасное дитя.
Молниеносно и грациозно он взмыл по кружевной спирали, сверкнув напоследок переливами своего бледно-бежевого костюма, а главное — бриллиантами. Или тем, что выдавалось за бриллианты, но сияло не хуже: галстучной булавкой, кольцом, браслетом, цепочкой, утопавшей в мягких зарослях у него на груди. Неужели это подлинные бриллианты? Да. Конечно. Разумеется.
Мистер Фокс щеголь и франт — во всем великолепии нелепых излишеств.
Как нахмурился бы мистер Хемсли! И доктор, и дантист, и мясник скривились бы. И как они завидовали бы!
Мистер Фокс, ах, мистер Фокс, ты просто дурак, а Джемма любит тебя. Она искала тебя по всему свету — и вот нашла.
На человеке раны заживают, на вещах — нет. Так говорил мистер Фокс — и слукавил. Разве зажила рана Джеммы, нанесенная смертью матери? Джемме было тогда лишь три года, и нежный детский организм в плоть и кровь свою вобрал горе и отчаяние. Несмотря на то, что после похорон старая Мэй взяла маленькую Джемму к себе и отогревала своим старым телом, вдыхая жизнь, отгоняя смерть. Но зажила ли эта рана? Заживает ли рана на теле юной яблоньки, которой привили «опытную» шишковатую грушевую ветвь?
И малышка Джемма не спала в ту ночь, как ни старалась Мэй. Малышка Джемма видела бледное мертвое лицо матери, прижатое снаружи к стеклу, слышала ее молящий, зовущий голос. Но неужели вы думаете, что этому бедному дитя было легче смотреть на еще живую мать, когда та заходилась в кашле, давилась кровью, заплевывала ею умывальник; когда ее лицо ночами отражалось в темном окне, разве не было оно страшным?
Неужели вы думаете, что Джемма жила равнодушная к своему сиротству? Неужели вы думаете, что ее не трогало отсутствие в жизни отца, провинциального актера, этого щедрого на семя мужчину, который орошал собою и закулисные углы, и темные аллеи, и глухие проулки? Он шел по белу свету, и там, где проходил, как цветы весною, вырастали дети. Вырастали, чтобы жить. Или, по крайней мере, выживать.
Раненые человеческие души продолжают существовать. Их раны затягиваются, но они прячут рубцы даже от самих себя. Они едят, пьют, спят, размножаются, даже смеются, плачут и вроде бы любят, но никогда не становятся теми, кем им суждено было быть и кем им хотелось стать. Мистер Фокс, Леон Фокс, танцующий в джунглях своего пентхауза, тоже выживал. Или доживал, в основном медленно умирая, цепляясь за иллюзию богатства, власти, пышности своими наманикюренными ногтями, которыми раскромсал уже десятки человеческих жизней.
Мистер Фокс, Леон Фокс, прячущийся в джунглях, всматривался в свое лицо, отраженное зеркалом в стиле модерн, страшась увидеть выпадающие клочья волос и гнилые зубы.
Этажом ниже Джемма давала попугаям строго определенную мерку корма и меняла воду в поилках.
— Отец мистера Фокса работал официантом в отеле «Риц», — сообщила Мэрион, вернувшись в офис из Дорчестера, куда она отвозила заказанный кулон. Клиентом был какой-то киномагнат, заглянувший сюда по дороге в Токио. Заглянет туда, заглянет сюда, просадит все деньги, предназначенные для съемок фильма, который никто и никогда не увидит, — кипятилась Мэрион и добавила: — Только об этом — об отце Фокса — никто не должен знать. Так что не выдавай меня.
— Официант! Не верю! — ахнула Джемма.
— И очень плохой официант, — сказала Мэрион. — Он ненавидел еду и ненавидел богатых. Говорят, Леон во всех отношениях превзошел его. А кулон, который я отвозила, вещь пошлая, если не сказать хуже, хоть и золотая. Голая девка сидит на коленях у жирного мужика, и что уж он там с ней делает, одному Богу известно. Я не приглядывалась. К прозрачному футляру мы всегда прилагаем увеличительное стекло, но я им не воспользовалась. Нашим клиентам, похоже, нравится получать художественно выполненные оскорбления. Это же не просто кулон, это портрет, шарж — называй как хочешь. Сам мистер Фокс не желает доставлять заказы. Вот и приходится мне. Ты же знаешь, какое для него значение имеет внешность человека. Удивительно еще, как он меня терпит. Правда, по-настоящему он не выносит только жирных людей. А я скорее плотная, чем жирная.