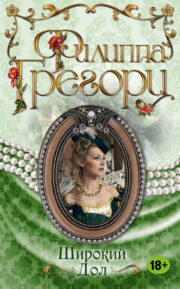Мама не заметила, как я, низко опустив голову над вышиванием, иронично вздернула бровь. Гарри будет учиться управлять имением? Вот уж смех! Он прожил здесь всю жизнь, но до сих пор толком не знает даже, где проходят границы наших владений. Он каждое воскресенье проезжал по нашей лесной дороге, но понятия не имеет, где в лесу гнездится соловей, а где протекает ручей, в котором всегда можно поймать форель. Если Гарри собирается что-то узнать о нашем имении, то остается надеяться, что он сумеет найти нужные сведения в какой-нибудь из книг, потому что он ни разу даже в окно библиотеки не посмотрел, когда в последний раз домой приезжал.
Но на самом деле я отнюдь не была спокойна; мало того, сообщение матери вызвало у меня нервную дрожь. Максимум того, что в данный момент было известно Гарри о Широком Доле, можно было почерпнуть в любом дешевом издании народных сказок или преданий. И все же, как только он прибудет домой – по требованию мамы, а вовсе не потому, что вдруг понадобился отцу, – он может постепенно превратиться в такого сына, каким хотел его видеть папа, какого папа искал во мне. Он может на самом деле стать наследником имения!
Джентльмены так и не вышли в гостиную к чаю, и мама очень рано отослала меня спать. После того как горничная заплела мои густые каштановые волосы в толстую косу, свисавшую до пояса, я отослала ее, вылезла из постели и устроилась на подоконнике. Моя спальня находилась на втором этаже, и окна ее смотрели на восток, так что мне был виден весь наш розарий, широким серпом огибавший фасад дома и его восточный торец; чуть дальше, за розарием, виднелись персиковые деревья, ягодные кусты и огородные грядки. Мне не нравились куда более просторные комнаты, расположенные в передней части дома и выходившие на юг; там, кстати, находилась и спальня Гарри. А со своего уютного сиденья на подоконнике мне был виден не только сад, залитый лунным светом, но и лес, подступавший к самым воротам. В холодном ночном воздухе явственно чувствовались знакомые ароматы Широкого Дола. Прежде всего, многообещающий запах травы, зреющей на заливных лугах и влажной от ночной росы. Время от времени до меня доносилось из леса беспокойное щебетанье черного дрозда и резкое тявканье самца лисицы. Внизу слышался рокочущий бас отца – он что-то рассказывал гостю о лошадях. Мне было ясно: этот тихий человек в черном сумел обо всем с папой договориться и Гарри действительно вскоре будет дома.
Какая-то темная тень промелькнула по лужайке, прервав мои размышления. Я узнала этого парнишку: он был помощником нашего егеря и охранял прикормленную дичь от браконьеров. Мы с ним были примерно ровесниками, но он выглядел старше меня, крепкий, как молодой бычок; за ним по пятам всегда следовала крупная собака-ищейка, помесь шотландской овчарки с борзой, специально обученная выслеживать и ловить браконьеров. Парень, видно, заметил свечу в моем окне и через весь сад (где ему совершенно не полагалось находиться) подошел и остановился прямо у меня под окном (что ему тоже совершенно не полагалось делать), непринужденно опершись одной рукой о теплую стену из светлого песчаника. Шелковая шаль, которую я накинула на ночную рубашку, показалась мне вдруг какой-то слишком скользкой и легкой, когда я увидела, каким горячим взглядом он на меня смотрит и улыбается, задрав голову вверх.
Его звали Ральф, и мы с ним были не то чтобы друзьями, но все же знали друг друга. Однажды летом, когда Гарри как-то особенно сильно нездоровилось и я, оставшись без присмотра, могла пользоваться полной свободой и бегать, где захочу, я как раз и обнаружила этого нечесаного и вообще не слишком опрятного мальчишку у нас в розарии. Разумеется, я со всем высокомерием шестилетней малышки приказала ему немедленно убираться вон, а он вместо ответа сунул меня носом прямо в розовый куст. Впрочем, увидев мое потрясенное исцарапанное лицо, он тут же любезно предложил меня оттуда вытащить. Я сделала вид, что принимаю его предложение, ухватилась за протянутую им руку, но, едва оказавшись на ногах, тут же изо всех сил вцепилась в эту руку зубами, а потом удрала – но не в дом, который мог бы послужить мне убежищем, а в лес, через крытый вход на кладбище. Это мое убежище было недоступно для мамы и няни, да они и понятия не имели о тех узких звериных тропах в зарослях, по которым я туда пробиралась, и обычно были вынуждены, стоя у ворот, долго меня звать, пока я не сочту нужным объявиться. Но этот коренастый парнишка ужом пробрался сквозь заросли, следуя за мной по пятам, и вскоре объявился в моем убежище – маленькой ложбинке, скрытой кустами, одичавшими розами и всевозможными сорняками.
На его грязной мордашке сияла улыбка до ушей, похожая на трещину, и я невольно улыбнулась ему в ответ. Это и стало началом нашей дружбы, которая, как это часто бывает в детстве, продолжалась все то лето, а потом вдруг прервалась, причем столь же мгновенно и беспричинно, как и началась. Но тем жарким летом я каждый день удирала в лес от нашей горничной, которой и без того дел хватало, а тут вдруг еще меня препоручили ее заботам, и мы с Ральфом встречались на берегу Фенни. С утра мы обычно ловили рыбу и плескались в речке, а потом отправлялись в долгие походы до самой деревенской дороги, или лазили по деревьям и грабили птичьи гнезда, или просто ловили бабочек.
В то лето я пользовалась небывалой свободой, потому что Гарри болел и за ним днем и ночью в четыре глаза следили мама и няня. Ральф же был свободен всегда – с тех пор, как научился ходить, потому что его мать, неряха Мег, вместе с ним обитавшая среди леса в полуразвалившейся лачуге, никогда не тревожилась из-за того, куда он пошел и что сделал. В общем, он был для меня идеальным товарищем по играм – именно он учил меня различать породы деревьев и запоминать, куда ведут тропинки в лесу, раскинувшемся вокруг нашей усадьбы таким широким полукругом, что за одно утро до его противоположного конца моим маленьким ножкам было просто не дойти.
Мы с Ральфом играли, как играют обычно деревенские дети – мало говорили, но много делали. Однако лето скоро кончилось; Гарри поправился; мама снова начала с бдительностью орлицы следить за белизной моих передничков; и теперь с утра все мое время было вновь отдано урокам. Если в начале осени Ральф все еще ждал, когда я снова приду в лес, то с наступлением холодов, когда листья стали сперва желтыми и красными, а потом облетели, он ждать перестал. Похоже, ему уже поднадоели наши игры, и он стал по пятам ходить за старшим егерем, обучаясь умению охранять дичь и отстреливать обнаглевших хищников. Папа рассказывал, что в деревне о Ральфе отзываются как о весьма умелом и прилежном парнишке. Особенно хорошо ему удавался уход за юными фазанятами. В общем, когда Ральфу исполнилось восемь, он стал на законном основании получать настоящее жалованье – пенни в день в течение всего охотничьего сезона. А к двенадцати годам он уже получал половину жалованья взрослого егеря – и в сезон, и не в сезон – и при этом выполнял работы не меньше взрослых.
Мать Ральфа появилась в наших краях неизвестно откуда; отец его давно бросил семью и исчез, и это означало, что сам Ральф был свободен от верности своим деревенским родственникам. Кстати сказать, именно это и мешало местным браконьерам действовать в нашем лесу безнаказанно. Большим преимуществом для Ральфа, помощника егеря, было также то, что их с матерью хижина стояла прямо посреди леса, на берегу Фенни; они понаставили клеток с самками и фазанятами прямо вокруг своего домишки, и стоило где-нибудь поблизости от клеток с фазанами хрустнуть хоть веточке, как с Ральфа тут же слетал любой, даже самый глубокий сон.
В детстве восемь лет – это все равно что целая жизнь. И теперь я успела почти позабыть то лето, когда мы с этим грязным маленьким постреленком были неразлучны. Но отчего-то я всегда испытывала некоторую неловкость, проезжая мимо Ральфа на своей хорошенькой лошадке в идеально сшитой амазонке и кокетливой шляпке с загнутыми с трех сторон полями. Особенно если ехала одна. Когда он, свесив чуб до земли, кланялся папе и кивал мне, я без должной легкости, испытывая, пожалуй, даже некоторое внутреннее затруднение, говорила ему: «Добрый день». И меня вовсе не привлекала перспектива каких бы то ни было бесед с Ральфом, если я ехала одна. Мне и теперь было немного неприятно, когда он с чрезвычайной самоуверенностью подошел к нашему дому, прислонился к стене и стал смотреть на меня, сидевшую на подоконнике при свете свечи.