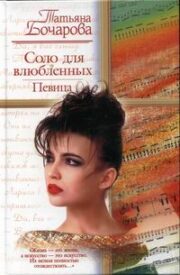– Ничего, – она уселась рядом, положила руку ему на плечо. – Ничего. Просто я не хочу, чтобы с тобой произошло то же самое. Наверное, мне слишком хочется спеть с тобой еще одну оперу. Или две. Словом, как можно больше.
– Какой трагический тон, – Глеб презрительно скривил губы. – Кажется, ты увлеклась ролью.
Лариса вздрогнула, как от удара.
– Почему трагический? Разве я что-то сказала неверно? Разве ты не понимаешь, что нужно покончить с этим, и немедленно. Принять все возможные меры! Глеб! Я ведь серьезно, я боюсь за тебя!
Ой! Теперь это сцена из мексиканского сериала! «Остановись, Хуан-Антонио, прошу тебя, не делай этого! Не делай, а то пожалеешь!» Ларискин, перестань. В этой травке, как ты сама только что сказала, нет ничего вредного. Ее курят тысячи людей, и они абсолютно здоровы и счастливы. Я просто расслабляюсь от запредельной нагрузки, а то недолго сойти с ума от работы в вашей «Опере-Модерн». И еще, хочу тебя предупредить. У меня было, как говорят, тяжелое детство, я шибко нервный стал от скандальчиков, которые мамаша закатывала отцу, а он ей. Так вот, с тех пор не могу терпеть, когда со мной говорят «серьезно», требуют срочно пересмотреть свое жизненное кредо, смотрят печально и укоризненно. У меня на все это аллергия. Зачем портить то хорошее, что было в наших отношениях?
– Это ты называешь хорошими отношениями? – Лариса как ужаленная отдернула руку, отстранилась от Глеба. – Я должна сидеть одна и знать, что ты где-то валяешься обкуренный, то ли дома, то ли в другом месте! Ждать, пока в один прекрасный день ты не явишься на репетицию вовсе и тебя приволокут в морг! Мило улыбаться и не сметь сказать ни слова, потому что у тебя, видите ли, аллергия на семейный сцены, а попросту говоря, на любые человеческие эмоции и чувства! Не кажутся ли тебе несколько односторонними такие чудесные отношения?
– Лар, не усложняй! – Глеб лениво развалился на диване. – Мне эти отношения нравились, тебе, по-моему, тоже.
В его голосе не было ни агрессии, ни гнева, и Лариса поняла, что он вовсе не желал обидеть ее или унизить. Да и вообще, понимает ли Глеб до конца, что говорит? Его затуманенный наркотиком мозг вряд ли до конца прояснился даже после душа.
Она постаралась взять себя в руки.
– Ладно, не буду. Но ты мне должен обещать…
– Я ничего тебе не должен.
Он сказал это спокойно, даже с оттенком добродушия, но его слова больно резанули Ларису по сердцу.
Он ничего не должен! А она? Она должна? Должна лгать Бугрименко, выкручиваться перед ним, глядеть в исступленные глаза Веры Коптевой, жить в постоянном страхе, ощущая, что за ней непрерывно следят чьи-то неумолимые глаза!
Нет, довольно! С нее хватит! Лариса вскочила.
– Счастливо оставаться, – холодно и презрительно проговорила она, – я ухожу.
– Напрасно, – он продолжал сидеть все в той же позе, не делая ни малейшей попытки остановить ее, задержать, и это усилило ту боль, которая и так рвала Ларису на части. – Лучше оставайся. Мы могли бы отлично провести время.
Она сделала шаг назад и почти физически ощутила, как противится уходу ее тело. Оно стремилось обратно, на диван, в объятия Глеба, не желая поддаваться голосу разума, не принимая во внимание то, что он подлец и преступник. Ларису охватил гнев: на себя, за безволие, на Глеба, имеющего над ней такую власть, на Бугрименко, истерзавшего ей душу, на Лепехова, который затеял эту проклятую постановку Верди. На весь мир.
– Надеюсь, – язвительно проговорила она, – после премьеры я никогда больше не увижу твою наглую физиономию! Никогда!
– Л арка, – Глеб насмешливо прищурился, – а ты, оказывается, истеричка. Вот не думал.
Все. Это был предел. Та маленькая капля, которая сточила камень, твердый камень Ларисиного терпения и сострадания Глебу. В этот момент они, терпение и сострадание, окончились. Исчезли без следа.
– Я не истеричка, – Лариса почувствовала, что задыхается, и понизила голос почти до шепота, – и ты сейчас узнаешь, насколько я не истеричка. Весь наш дурацкий разговор – ведь я не за этим вовсе ехала сюда.
– А зачем?
– Я хотела обсудить с тобой день нашего знакомства.
– В деталях? – усмехнулся Глеб.
– Напрасно смеёшься. Я говорила тебе, почему опоздала. Ведь говорила?
– Да. Кажется, попала в аварию.
– Не совсем так. На моих глазах машина проехала на красный свет и задавила насмерть ребенка. Так вот. Я хочу описать тебе эту машину. Серебристо-серый «опель» с антенной сзади и зеленым крабом, висящим на лобовом стекле. Это еще не все. Я хорошо разглядела и водителя. Худощавый длинноволосый брюнет.
Лариса перевела дух. Глеб молча, во все глаза смотрел на нее и не говорил ни слова.
– Молчишь? – устало произнесла Лариса. – Правильно. Что можно на это ответить. Это ты. Ты – убийца, Глеб. Ты убил ребенка.
– Да ты… ты, – он вскочил с дивана и закричал так, что Ларисе показалось, у нее лопнут барабанные перепонки. – Ты с ума сошла! Думай, что несешь!
– Я думала. Три недели я молчала об этом, три недели! С тех пор как увидела твой автомобиль, точь-в-точь такой же, как тот, и даже свежевыкрашенный в месте столкновения. Я молчала, хотя видела ссадину у тебя на лбу. Ты говорил, что ударился о дверцу шкафа, но на самом деле ты ударился о руль. Я видела, как это произошло. Ты не был у следователя. Тебе не приходилось лгать, покрывая другого человека. Ты не видел лица матери погибшего ребенка. Я пыталась тебя спасти, потому что… потому что слишком дорожила тобой. Но даже если я спасу тебя сейчас, в дальнейшем тебя ждет или могила, или тюрьма. Это единственный исход жизни, которую ты собираешься вести.
– Чушь какая-то, – в лице Глеба не было ни кровинки. Смуглое от природы, оно теперь стало желтоватым – Чушь. Говорю тебе, «опель» стоял в гараже у механика. В тот самый день. И накануне тоже.
Хочешь, можем съездить к парню, который занимался ремонтом, он подтвердит тебе.
– Механику можно заплатить за молчание.
– Дура! Зачем мне ему платить, если я не делал этого? Как ты могла подумать на меня такое?
– На кого же еще думать, если все сходится. – Лариса внезапно ощутила сильную усталость. У нее нет больше желания спорить с ним, что-то доказывать. Из нее выжали все соки.
Уйти отсюда. Глеб ни в чем не признается, это ясно. Она не найдет в нем союзника и друга. И предать его она тоже не сможет. Значит, ей предстоит продолжать нести одной ту ношу, которую она взвалила себе на плечи.
– Желаю тебе не сойти с ума, – тихо проговорила она, оборачиваясь, чтобы выйти из комнаты.
– Пошла ты! – пробормотал Глеб и повалился на диван. Жалобно скрипнули пружины. Лариса, не обернувшись, вышла в прихожую, открыла входную дверь. Позади было тихо. Глеб не встал с дивана, не побежал за ней, ничего не крикнул вслед.
Лариса на мгновение замерла, потом резко хлопнула дверью. Медленно, точно на костылях, спустилась с пятого этажа, подошла к «ауди», все еще ожидая, что, может быть, он окликнет ее в окно. Но окно было пустым, и в нем колыхалась на ветру линялая розовая шторка.
Лариса села за руль и включила зажигание.
19
Едва Лариса въехала во двор, она тотчас же увидела выходящую из своего подъезда навстречу ей Милу. Заметив подругу, та радостно замахала рукой:
– Привет! Где это тебя носит? Ты же говорила, что будешь заниматься уборкой.
«Я ею и занималась, – подумала Лариса, закрывая машину. – Правда, не в своей квартире. И напрасно».
– Ездила по делам, – сказала она вслух.
– А я в гости к тебе намылилась, – Мила потрясла полиэтиленовым пакетом, в котором угадывалась бутылка. – Настроение отвратное. Не посидеть ли нам, подруга, чисто женской компанией? Авось мне и полегчает.
«А что? – вяло подумала Лариса. – Может быть, сейчас это как раз то, что мне необходимо. Во всяком случае, лучше с Милой опрокинуть стаканчик-другой, чем сидеть весь вечер в пустой квартире и в подробностях вспоминать недавнюю сцену в доме у Глеба».
– Что у тебя там, вино? – Она подозрительно покосилась на пакет.
– Что ж я, идиотка? – обиделась Мила. – Водка. Причем отнюдь не дешевая. «Смирновская».
Разговор подруг совсем не вязался с их внешним видом и мог показаться странным на первый взгляд. Но все объяснялось просто: от вина у вокалистов сильно садились связки, поэтому в певческой компании предпочитали водку как можно более чистую и потому дорогую.