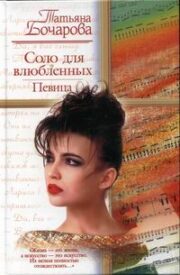Это было абсолютно верно, и Лариса тут же вспомнила, что познания в области анатомии и физиологии у Артема действительно были отменными. Кроме того, он не однажды давал Ларисе и другим очень дельные советы по поводу того, как лечить ту или иную хворь.
– Может быть, ты и права, – вздохнула Лариса, – но я все равно не понимаю, какая связь между тем, кем раньше был Артем и что когда-то случилось с ним, и тем, как он догадался, что меня хотят убить.
– Да очень простая связь, – Мила с ожесточением потерла виски. – Он что-то заметил в Женьке, что-то такое, не бросающееся сразу в глаза. Заметил благодаря тому, что когда-то раньше сталкивался с подобным. Когда перед финалом ты ушла, мы обсуждали, пойдет ли он на пьянку после премьеры. Я в шутку сказала, что если он пойдет, то избавится от своего дежа вю, – помнишь, ты сама так назвала его беспокойство по поводу того, что он не может вспомнить нечто важное. И еще я прибавила, что у меня такое тоже случается: будто я помню то, что было не в этой жизни, а в прошлой. И вот тут он как сумасшедший сорвался и помчался вниз. К тебе. Ему на сцену выходить, а он унесся, точно на пожар, – Мила, кончив массировать голову, провела руками по лицу, будто хотела стереть с него утомление. – Собственно, так оно и было. Он правильно спешил.
Лариса молча ошеломленно смотрела на подругу. Значит, Артем спас ее не случайно? Значит… он постоянно думал о ней, беспокоился за нее, пытался разгадать, что же творится в театре. И вот почему он так сильно и убежденно пел свою арию из второго действия! Он пел о себе самом и о ней, Ларисе, попавшей в страшную ловушку из-за своей любви к Глебу. Он все знал о Глебе к моменту премьеры, но ничего не сказал ей. Не хотел тревожить? Считал, что так будет лучше?
Из-за нее он чуть не погиб, лежит сейчас в реанимации, борется со смертью. Неужели она стоит таких жертв с его стороны? Просто друг на такие жертвы вряд ли пойдет.
– Я все-таки схожу туда, – Лариса решительно распахнула дверцу. – Они должны меня пустить. Их надо под суд отдать, этих врачей недоделанных, за то, что назначают лекарства, которые чуть на тот свет не отправляют! Я поговорю с ними, в глаза им посмотрю! Пустят как миленькие, пустят!
– Стой, – Мила цепко обхватила Ларису за плечи. – Подожди, говорю! Ты дура, да? Ты так и не поняла самого главного? – Она почти кричала, голос ее срывался, пальцы впивались Ларисе в плечо, причиняя боль.
– Пусти, – Лариса попыталась освободиться, но тщетно. – Ты что, бешеная? Чего ты от меня хочешь? Что еще я должна понять?
– Не надо ничего говорить врачам! – выкрикнула Мила Ларисе в лицо. – Не надо! Они не виноваты! Он не мог не знать про лекарство! Сам он, сам, понимаешь ты? Сам! – Руки ее разжались, губы задрожали, по щекам покатились слезы.
– Да? – растерянным шепотом переспросила Лариса, беспомощно моргая.
– Да, – Мила понурила голову, секунду помедлила и произнесла жестко, точно приговор прочла: – Из-за тебя.
Лариса широко раскрытыми глазами, не мигая, смотрела на Милу. На ее осунувшееся, курносое лицо, на отчетливо обозначившиеся первые морщинки под глазами, на еле видную, крошечную седую прядку возле виска, на горько опущенные уголки губ.
– Любит он тебя, – без всяких эмоций проговорила Мила. – Давным-давно. Почему ничего не говорит, не знаю.
Вот, значит, что Мила хотела сказать ей! Много раз начинала и не досказывала. Что ей мешало поговорить начистоту? Только одно – теперь Лариса знала это наверняка.
– Ты… – Она вдруг обняла Милу, уткнулась ей в плечо, повторила глухо. – Ты…
– Да, я, – с вымученной усмешкой проговорила Мила. – Я люблю его. А ты – Ситникова, а он… У нас вместо классического треугольника получается какая-то арифметическая прогрессия, не находишь?
Вместо ответа Лариса заплакала. Впервые за весь этот ужасный, тяжкий день слезы вырвались наружу и текли по лицу нескончаемыми потоками, горько-соленые, безутешные. Но в то же время облегчающие. С ними, этими слезами, выходило все колоссальное напряжение последних дней, все муки совести прошедшего месяца, вся горечь постигшего ее разочарования, вся боль от утраты иллюзий.
Здесь, в машине, сжавшись в комок, на плече у Милы Лариса оплакивала не только свои, а общие страдания – страдания самой подруги, Артема и даже Глеба, изо всех сил скрывающего свой страх и неприкаянность под маской беспечности. Оплакивала, понимая, что у этих страданий один корень – непонимание друг друга, недосказанность, нерешительность, ложь перед самим собой. Теперь Лариса хорошо знала, что от этих безобидных на первый взгляд вещей можно умереть. Как сегодня днем чуть не умерла она. Как только что едва не погиб Артем.
Мила молчала, не утешая Ларису, но и не пытаясь отстраниться. Просто сидела неподвижно, ожидая, когда слезы подруги иссякнут. Ей самой так хотелось заплакать сейчас вместе с Ларисой, зарыдать, завыть, прислониться щекой к мокрой щеке, облегчить боль, которая сверлила ее изнутри.
Но она не могла. Видно, выплакала все слезы в тот день, когда говорила с Артемом. Значит, это был ее лимит, больше ей не отпущено.
Лариса всхлипывала все тише и реже и наконец, совсем затихла, так и не отрывая лица от Милиного плеча.
– Все? – Мила тихонько высвободила руку, взглянула на часы. – Полегчало?
Лариса кивнула и шмыгнула носом в последний раз.
– Пожалуй, сейчас уже стоит сходить туда. Самое время, – Мила вылезла из машины.
Лариса поспешно последовала ее примеру, хлопнула дверцей, вытащила из сумочки пудреницу и носовой платок.
– Я очень страшная? – Она слабо, неловко улыбнулась Миле, раскрывая зеркальце.
– В меру, – успокоила та. – Ладно, дорогая, ты приводи себя в порядок, и айда.
– А ты? – Лариса оторвалась от зеркальца, удивленно поглядела на Милу.
– А я домой поеду. Бог даст, с Артемом больше ничего не случится. Мне сказали, что состояние стабильное, хоть и тяжелое. Я свое отдежурила – с шести часов на ногах. Теперь твоя очередь, – Мила прищурила чуть удлиненные зеленоватые глаза, отчего сразу стала похожа на кошку. – Иди давай. Только учти, я тебе ничего такого не говорила. Ничего! Поняла?
– Поняла, – Лариса кивнула, продолжая неотрывно смотреть на подругу, не зная, как сказать ей то, что сейчас было у нее на сердце. Да и надо ли было что-то говорить?
– Тогда пока, – Мила улыбнулась. – Созвонимся завтра.
– Пока.
Мила круто повернулась и засеменила в сторону больничных ворот, звонко цокая по асфальту каблучками. Дойдя до ограды, она поглядела назад. Лариса уже спешила к крыльцу, на ходу обеими руками поправляя растрепавшиеся волосы.
Мила дождалась, пока она скроется за дверями корпуса, и зачем-то кивнула головой, будто самой себе подтверждая, что сделала все правильно. Да, благородство – вещь изжитая и старомодная, и она, Мила, могла бы ничего не говорить Ларисе. Ничего из того, что только что сказала. Но какая от этого радость? Никакой. Только что будет в этом мире еще двое несчастных людей, кроме нее самой, Милы. Пусть уж лучше получится наоборот.
Мила вздохнула, выпрямилась и бодро зашагала к шоссе ловить машину, чтоб поскорей добраться до дому.
34
Перед глазами была бескрайняя, сияющая белизна. Эта белая безбрежность слепила, хотелось зажмуриться, но веки точно свинцом налились, и не было сил даже моргнуть.
Вероятно, сияющий свет не был ни раем, ни адом, а лишь неким перевалочным пунктом, где с вновь прибывшим должны были разобраться, определить его на вечное место жительство, воздать по заслугам. Где же Бог?
Артем попробовал шевельнуться, но руки и ноги были такими же чугунно-тяжелыми, как и веки. Странно, он никогда не думал, что в загробной жизни действуют гравитационные силы. Ему, напротив, казалось, что душа, распростившаяся с телом, должна быть легче перышка.
Артем все-таки превозмог себя и сморгнул. Как ни странно, после этого сияние стало не столь резким, а белизна сгустилась и приняла какие-то знакомые очертания. В следующую секунду Артем понял, что глядит в потолок, выкрашенный белой водоэмульсионкой и нашпигованный лампами дневного света.
! Вот это да! Вряд ли на том свете потолки покрывают водоэмульсионкой. Значит, он жив. Ничего не вышло.
Он снова предпринял попытку ощутить свое тело, заставить его хоть чуть-чуть слушаться. На этот раз его ждал больший успех – он почувствовал свои руки под одеялом и, опершись на них, попробовал повернуться на бок.