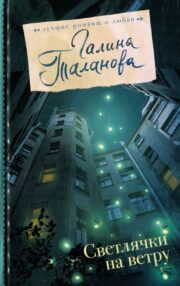У сына обнаружился дисбактериоз, что, впрочем, было у многих детей ее знакомых, и ребенок плакал, как ей казалось, почти постоянно, с короткими передышками на сон и еду. Участковая заметила отставание в развитии малыша. Это обстоятельство вызвало в семье настоящий переполох, были вызваны лучшие платные врачи, которые отвели страшный диагноз, но страх, что с сыном что-то не так, остался. Вика вглядывалась в орущего малыша и сравнивала с написанным в книгах: ей казалось, что у них все не так. Вспомнила про больную дочь первого мужа, которая так и росла пока отставшей от ровесников, — и сердце буквально захлебнулось и потонуло в предчувствии. Билось, отчаянно барахтаясь и пытаясь выплыть в ровно текущие воды. Накупили всяких развивающих игрушек и книжек, Вика мучилась от того, что у нее не хватает сил и времени уделять внимание играм с сыном. Когда смотрела на малыша, то тревога не покидала ее: казалось все время, что что-то с ним не так. Снова и снова заводила речь о том, что надо показать мальчика хорошему специалисту. Сын тянулся к ней своими кукольными ручками и мяукал по-кошачьи.
Потихоньку сын начал ползать, а затем и ходить, но говорить — не говорил совсем, даже «мама». Было в этом что-то странное. Вика спрашивала знакомых, почему так, но ее все успокаивали:
— Не бери в голову. Заговорит в свое время.
От того, что ребенок начал ходить и кормили его теперь смесями, легче не становилось. Сын рос очень активным. Он по-прежнему часто плакал, но теперь еще и не мог усидеть на месте. Открывал все шкафы, просто дергая подряд попавшиеся на его пути дверцы за ручки. Малыш был точно маленькая подвижная обезьянка, которая так и не начала говорить, но зато научилась сбрасывать на голову кокосы. Дергал за ручки — и из шкафов вываливались одна за другой вещи: книги, одежда, пузырьки и коробочки — все это оказывалось на полу в мгновение ока. Хватал со стола бумаги, ручки и папки. Уследить за ним было невозможно. Вика теперь с ностальгией вспоминала те времена, когда сына можно было запеленать и он лежал в кроватке… Ей казалось, что это было самое спокойное время после рождения сына. Если она отрывала Тимура от шкафа, то он тут же начинал плакать, садился на пол и катался, будто кошка, нализавшаяся валерьянки, и орал. Успокоить его могло только одно: взять на руки, прижать к себе и качать. Она тащила его, отдирая от шкафа, к креслу или дивану. Брала на руки и качала. Удерживать его на руках у нее уже не было сил, мальчик тяжелел день ото дня. Как только Глеб появлялся с работы, она теперь бежала к нему со слезами:
— Забери его. Я больше не могу!
Родителей нагружать внуком она боялась: они работали и спасали от многих бытовых проблем, на которые у Вики не хватало ни времени, ни сил. Сидеть с внуком они не хотели, хотя любили его тискать и умилялись каждому его движению, каждому лепету. Да и сил на это после работы у них зачастую просто не оставалось. Отец по-прежнему приходил домой поздно, а мама еще и готовила после работы на всю их прибавившуюся семью.
27
Внезапно пожелтела мать. Пожелтела так, что ее лицо стало похоже на дыню: такое же круглое, одутловатое, с прожилками зелени. У нее не было никаких болей, но была диагностирована закупорка желчных протоков. Срочно нужна была операция, без нее грозил летальный исход… В сущности, такая операция была сама по себе простой, но все жили в тревоге ожидания неизвестно чего. Прооперировали сразу же на другой день, как привезли маму в больницу, но камень оказался вбитым в печень, ее выздоравливание затянулось, одно осложнение следовало за другим, наслаиваясь друг на друга. То на фоне простуды начался воспалительный процесс в кишечнике и поднялась температура под 39 °C, то в брюшной полости скопилась асцидная жидкость — и хлынула сквозь незаживший свищ в животе, то вдруг обнаружились воспаление легких и плеврит, полученные на больничных сквозняках. Серое, как запылившая бумага, лицо; лиловые, точно у первоклашки, облизывавшего ручку, губы; постоянная одышка и слабость до дрожи в ногах, когда шла по стеночке до туалета.
Они ходили к маме по очереди с отцом. Теперь сын и домашние дела были почти все на Вике. К маме ездил чаще всего отец, иногда, когда он не мог из-за работы, Вика. Навещали ее каждый день. Когда Вика отправлялась в больницу, с ребенком сидел Глеб. Уставала она неимоверно. Чувствовала себя водителем, гоняющим по перегруженной трассе которые сутки подряд. Клевала носом и испуганно встряхивалась, понимая, что засыпает и теряет дорогу из виду: серое шоссе сливается с серой пеленой, застилающей глаза.
Тимурка стал не просто орать, когда ему что-то не нравилось, а орать в течение получаса-часа, не переставая. При этом он изгибался, как уж, вырывался из рук изо всех сил, бил ногами в живот, удержать его на руках было невозможно. Он валялся и надрывался в любом месте: на диване, в кроватке, в манеже, — не обращая внимания ни на что вокруг и не реагируя ни на какие слова и действия. И это еще полбеды: при этом он сильно мотал головой и, если в пределах досягаемости было что-то твердое, и особенно с углами, он обязательно головой об это бился. Удержать его от падения можно было, только прижав всем своим весом к стене, а он продолжал реветь, выть, вырываться и мотать головой…
Вика сама была на грани нервного срыва и уже не обращала внимания на сына, закатывающегося в истерике, если была на кухне. Зашла, посмотрела: весь красный, как свекла, — погладила по голове. Волосенки были липкие и приклеились к лобику, покрытому испариной. Тимоша не переставал заливаться. Вика продолжала гладить его:
— Ты мой кисенок… Тише, ну, тише же! Ведь ничего не болит!
Вдруг заметила, что багровый сын становится нежно-розовым, будто наливающийся соком пепин, но продолжает плакать.
— Ну, что ты, мой зайка? Мама рядом…
Сын белел, щеки его становились как обмороженные.
В прихожей резко зазвонил телефон, пытаясь пробиться сквозь сирену сына. Бросилась к аппарату, говорила две минуты, сославшись на то, что сын капризничает. Вернулась в комнату — и сердце выпрыгнуло из груди. Осталась одна тошнотворная пустота под ложечкой. Сын лежал синий, на боку, уткнувшись лбом в перекладины кровати. Бросилась к нему, чувствуя, как слабеют ноги и лоб покрывается испариной. Вся мокрая, будто только что бежала кросс с рюкзаком за плечами, взяла Тимошу на руки, начала его тормошить и качать, подкидывать на руках, разминать холодеющее тельце… Сын открыл мутные глаза, подернутые какой-то серой поволокой, как у рыбины, вытащенной из воды, и снова заплакал. Теперь он плакал тихо, точно щенок, жалобно скулил…
— Уу… Уу… Уу…
Начались ее хождения по невропатологам. Те утешали ее и прописывали ребенку очередное успокоительное, которое помогало мало. Теперь Вика, как только сын заходился в истерике, бросала все и бежала к нему… Ушла в туалет, он заплакал, что ее нет, потом молчание… и стук. Выбежала, сынок лежит опять синий… И так могло быть по несколько раз в день. Врачи разводили руками и попрекали, что избаловали сына, вот он и капризничает, чуть что не по нему.
Гладила его, чувствуя, как слипаются веки и что сама сейчас упадет в обморок. Комната медленно плыла, как станция вокзала в окнах останавливающегося поезда.
Тот день, о котором Вика будет со стыдом и ужасом вспоминать всю свою жизнь, день, который мгновенно въестся в ее память, как угольная пыль в кожу шахтера, был похож на все другие, как шпалы, по которым Вика ехала куда-то, мотаясь в подпрыгивающем вагоне семейной жизни на стыках рельс. Ребенок весь день капризничал, хныкал и хулиганил: кидал игрушки, пытался попробовать на вкус цветные карандаши и фломастеры, нажимал кнопки на телевизоре, то и дело пугая Вику громогласным вещанием, от которого дрожали барабанные перепонки, выплевывал манную кашу себе на грудь и на пол. Вика чувствовала, что раздражение поднимается в ней с каждой выходкой сына, словно пыль с проселочной дороги от проехавшего автомобиля. Она даже заплакала, ощущая себя маленькой беспомощной девочкой, оставшейся вечером одной из всей группы, за которой никак не приходили родители. Казалась себе навсегда забытой и брошенной.
Когда Вика ушла на кухню снимать пену с закипающего куриного бульона, сын стянул скатерть со стола, на котором стояла ваза с живыми цветами, и пока Вика бежала на брызнувший звон разбившегося стекла, умудрился еще повиснуть на шелковой гардине с золотистыми травами, как на лиане, так что упал деревянный карниз, оглашая комнату веселым звоном бубенчиков от съехавших с него колец, который сбросил книги и бумаги с письменного стола, — и комната теперь напоминала нашествие воров, искавших заначку во вскрытой ими квартире. Ребенок сидел на полу в луже разлившейся воды и горько плакал, размазывая грязными руками слезы, взъерошенный и ставший похожим на чукчу, взопревшего под своей шапкой в аэропорту города Сочи. Она попыталась взять сына на руки и оттащить от стола, но он закатился таким истошным плачем! Растянулся на полу и сучил ножками, точно в судороге.