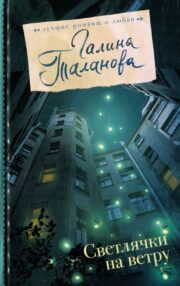Писали на ладошке мальчика пальцем. Закончилось слово — прикрыли его ладонь своею, это — пауза, потом писали дальше.
Бабушка с дедушкой души не чаяли во внуке и помогали, как могли. Без них бы Вика не выдюжила.
Как-то зимой Вика вышла на балкон развешивать белье. Как всегда спешила, только кофту накинула. Тимур стоял за дверью и через стекло смотрел на маму. Потом начал играть с нижним шпингалетом и случайно опустил его. Ничего не подозревая, отошел от балкона и сел смотреть книжку. Спиной к окну. Бесполезно было стучать, звать и махать руками. Вика стояла и плакала, замерзая на морозном пронзительном ветру. Спасла соседка, проходящая по двору, вызвавшая по телефону Глеба с ключом с работы и скинувшая с верхнего балкона куртку и старое ватное одеяло.
И все же в ее жизни бывали минуты, когда она чувствовала себя почти счастливой.
…Раннее утро. Медленный холодный зимний рассвет проникает сквозь газовую занавеску в комнату, окрашивая ее в розовый цвет. Вика сквозь сон чувствует шаги своего малыша, он подходит к ней и осторожно целует в щеку. Вика гладит его по голове, ощущая, как мягкие шелковистые волосенки скользят в ладони. И снова проваливается в небытие, где полоса тьмы сменяется сказочными видениями, яркими, точно лубочная картинка.
Сын опять подходит, крадучись, будто котенок, который хочет запрыгнуть к хозяйке на кровать, чтобы свернуться там в пушистый клубочек. Снова целует со звонким чмоком. Вика спрашивает его в полудреме, выныривая из небытия, будто рыба к поверхности воды:
— Тимурчик, ну что ты меня будишь? Зачем целуешь-то?
— Для счастья.
Вика потом весь день летала по дому на прозрачных и почти невидимых крыльях, больших, как у стрекозы, улыбаясь, вспоминая его ответ.
32
Была она почти счастлива, и когда жила летом на даче, вдали от городской круговерти. Природа будто возвращала ей утраченное равновесие и гармонию. Как питательный раствор, вводимый в вену через капельницу, так каждый день капелькой солнечного света вливался в нее, придавал ей сил. Пахло свежескошенной травой и хвоей. Ребенок собирал в саду расщеперившиеся сосновые шишки, которые деревья сбросили по весне. Шишками топили самовар, настоящий, не электрический. Из самовара, закипающего на столике под сосной, шел легкий полупрозрачный дымок, горьковато пахший смолой. Любили поздние вечерние чаепития в саду под керосиновой лампой. Фитилек дышал, дрожал огненным тельцем, будто от страсти.
Усыпанное звездами небо напоминало о том, что все временно и твоя жизнь — всего лишь мгновение по сравнению с жизнью небесных светил. Ты никогда не сможешь светиться так, что твой свет будет доходить через года, рождая в чужих душах тайный восторг, в который неизменно подмешивается тоска о том, что все в этом мире не вечно и преходяще.
Темная дорога, тишина и парящие между деревьями трогательные огоньки, в каждом из которых теплится маленькая жизнь. Мир так прекрасен и так хрупок!
В конце июля, когда нагрянула невыносимая жарища и даже ночи не приносили облегчения от зноя, которым пропитались стены и накаленная за день шиферная крыша дома, Вика сидела с ребенком в гамаке, втягивая в легкие тягучий сосновый запах. В траве, на которую опустилась спасительная роса, залихватски пиликали на своих рассохшихся от жары скрипках кузнечики и чирикали очнувшиеся от дневного обморока птицы. Смотрела на равнодушно мерцающие холодные звезды, чувствуя себя букашкой, затерявшейся в глубокой траве. Можно ползти по травинке вверх, думая, что штурмуешь небо, а ты всего лишь качаешься на единственной былинке, которую кто-то большой и тяжелый в любой момент может придавить, вмять в землю каблуком, даже не думая ни о травинке, ни тем более о какой-то там букашке, карабкающейся к небу. Это нам самим кажется, что о нас должны помнить и нас хранить. Травинка живуча и упруга, она потянется снова к свету, выпрямляясь, точно сжатая пружина; корни ее цепки — и она прорастет снова сквозь грунт, пахнущий палой листвой. А букашке опять взбираться по ее распрямившемуся стеблю, печалясь о том, что Бог не дал крыльев.
Прижала Тиму к себе, чувствуя его горячее тельце. Погладила по шелковым волосам, выгоревшим и ставшим похожими на ковыль. Прижалась к его макушке, впитывая в себя расширившимися ноздрями запах молочной детской кожи. Вот оно! Моя кровиночка, еще одна букашка в мироздании, которой предстоит взбираться вверх.
Перламутровая раскрывшаяся ракушка месяца слабо поблескивала на темном небе, время от времени ныряя в облака, будто купаясь в набегающих волнах.
— Мама! Посмотри! Звездочка с неба упала и горит в траве. — Тимурка вырвался из ее объятий, спрыгнул на землю и побежал к яблоне, под которой в темных зарослях зажегся зелено-желтый фонарик. — Что это?
Вика следом за сыном пошла на волшебный свет, качающийся на кончике осоки. По травинке карабкался вверх светлячок, освещая свой путь светом, который рождался внутри.
— Это светлячок, Тима. Смотри: он карабкается к звездам, освещая себе дорогу светом, который несет сам. Вот так и люди, до звезд добираются лишь те, кто горит.
Подставила ладонь под травинку. Качнула ее другой рукой. На ладони полыхала яркая лимонная искорка, примостившаяся на хвосте коричневого невзрачного жучка, щекочущего ладонь своими длинными усиками.
— Мама! Смотри! Вон еще два зажглись!
Сын стряхнул на свою ладошку, как капли росы, два фонарика, разливающих сказочный свет. Жуки горели на ладони сына, точно маленькие янтарные камушки, впитавшие в себя столько солнечного света, что могли дать его другим.
— А давай их в баночку положим — и мне ночью будет не так страшно. Я всегда буду видеть тебя, даже когда свет не горит.
— Сынок, им надо карабкаться к небу… А какое же небо в комнате… Они погибнут. Лучше мы с тобой каждый день будем здесь сидеть и любоваться их свечением, думая, что звезды упали к нашим ногам — и мы их можем удержать в ладонях.
Но больше светлячков увидеть им не удалось. На следующий день начались дожди. Сначала прошла гроза, озарявшая огненными всполохами кусты, пьющие жадными глотками упругие ливневые струи. Потом кусты напились и отяжелели, свесив листья, точно складки отяжелевшего живота. Трава прижалась к земле, побитая тяжелыми каплями, — и больше по ней никто не карабкался к небу.
А ночью зарядил нудный осенний дождь, в доме стало сыро и холодно так, что вся одежда была влажной, и только увиденный в той последней июльской ночи фонарик грел по-прежнему сердце, точно маленькое чудо, которого мы всю жизнь ждем и которое почти никогда не сбывается.
Сын несколько раз спрашивал, когда появятся живые фонарики, а потом забыл.
33
Отец сдал внезапно. В мае у него начала болеть нога. Стал шаркать по полу, будто девяностолетний старик, жаловался, что трудно ходить, сетовал, что, наверное, это отложение солей. Кряхтел, переставляя негнущиеся ноги, точно костыли.
Пошел на консультацию в больницу к знакомому врачу, но обратно не вернулся. Оставили там. Сказали: «Нужно полечиться. Нарушение мозгового кровообращения». А он-то считал, что у него «синдром заклинивания»…
Через месяц выписали, но дали инвалидность, военную. Он сам просил военную, чтобы можно было работать. Работать не получилось. Но отец был полон оптимизма, считал, что все временно, уже выходил гулять на улицу, мыл посуду, чистил картошку. Жизнь налаживалась. В сентябре мама уехала в санаторий. Она тоже выдохлась, была вся на нервах и нуждалась в отдыхе.
За неделю до маминого приезда Вика пришла с работы — и обнаружила отца лежащим на полу. Попыталась его поднять, но не получилось. Отец только жалко и криво улыбался и ничего не говорил. Дождалась мужа. Аккуратно подняли папу с пола и унесли волоком в спальню. Вызвали «Скорую». Врач «Скорой помощи» диагностировал инсульт, но сказал, что госпитализировать сейчас нельзя: «Вызывайте участкового» и, может быть, через недельку, если не случится чего-нибудь еще, можно будет отправить в больницу». Маме решили не сообщать. Пусть набирается сил: ей еще столько предстоит выдержать!
Неделю кормила с ложечки бульоном, творогом и жидкой кашей. Поила через трубочку из кружки с надписью «Ессентуки», привезенной из минеральных вод. Маме врала, когда та звонила и просила позвать папу, что он в душе. Как ни странно, та верила или хотела верить. Пришла тетка, папина сестра, поселилась у них, сидела с отцом днем, когда Вика была на работе. Но отец почему-то не хотел есть из рук сестры. Произносил, еле ворочая одеревеневшими губами: «Дочь». Он почти ничего не говорил, вот только это — «Дочь».