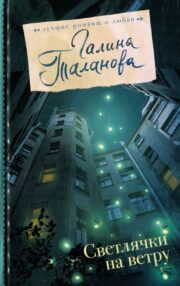Новый год он встретил дома с родителями и бабушкой. Гирлянды из разноцветных лампочек, растянутые вдоль домов и поперек тротуаров; подсвеченные голубым и сиреневым сказочные персонажи на шумных улицах; прилавки, заваленные блестящими шарами и сосульками, в которых отражаются цветные огоньки с елки на площади; бенгальские огни и причудливые свечи, зажигая которые можно гадать и загадывать желание; веселый школьный вечер и завораживающие, полные чудес новогодние представления в театрах, — все пролетело мимо него. Он валялся в постели, завернувшись с головой в ватное одеяло, и ему не хотелось никуда выползать из своей берлоги. В ней было тепло и уютно. Он, будто медведь лапу, в полусне «сосал» сладкие воспоминания, где в его жизнь ворвалась любовь.
66
На улице было темно. Один глаз их любимого со Златкой фонаря, который освещал их долговязые фигуры, сцепленные за руки, был разбит и закрыт ватной повязкой налепившегося снега; другой глаз, горящий каким-то тусклым светом, слезился и казался затянутым желтой конъюнктивитной пленкой. Снег на тротуаре был затоптан настолько, что превратился в лед, блестевший под лужицей накопившийся воды. Он шел по этому накатанному льду осторожно, словно старик, шаркая ногами и неловко балансируя руками. Улица была пустынна, и только где-то у серого подъезда замерла парочка, слившаяся в одно размытое темное пятно на фоне высветленной в темноте стены дома, горящего равнодушными квадратиками окон за разноцветными занавесками, похожими на веселенькие первомайские флажки. Стояла тишина, закладывающая уши, как будто он быстро снижался в самолете. Тимур шел по любимой им улице, где им со Златой так нравилось гулять и которая представлялась ему самой красивой улицей города. Сейчас он шагал по этой улице — и она не приносила ему никакой радости, это — чужая и совсем незнакомая улица, которая кажется ему пустынной, мрачной, несмотря на ковровые дорожки из снега и льда, раскатанные под ногами. Он шел будто слепой, спотыкаясь, ковыляя. Глаза смотрели, но ничего не видели вокруг, ничего не хотели задержать в памяти из этой заспанной улицы, все в памяти было заполнено словами: «Нам лучше расстаться. У нас нет будущего. И я люблю твоего друга». Эти слова прокручивались в его мозгу, как плохой заезженный диск с битыми файлами, и казалось, что конца этому не будет никогда.
Вышел к дому, который он никогда раньше не замечал, и вдруг как очнулся: над ступеньками лестницы горело зеленоватым фосфоресцирующим светом слово «Аптека» и светился зеленый крест. Его почему-то задело, что крест зеленый, а не красный: зеленый, как свет светофора, на который возможно движение дальше. Оглянулся по сторонам. На улице ни души. Сердце начало биться со страшной силой, ухало, как поезд, сошедший с рельс под откос перед тем, как стать грудой искореженного металла, он ненавидел всех, ненавидел все, что не его… Как надоело все, хотелось бежать, бежать куда-нибудь… В душе пустота, как в доме, из которого вывезли все вещи, но на всякий случай заколотили от бомжей досками с огромными ржавыми гвоздями. Вот сейчас он зайдет в аптеку, купит какого-нибудь снотворного посильнее — и в его жизни больше не будет непереносимой боли: он перестанет мучить родителей и страдать сам; ему не надо будет напрягать слух, чтобы расслышать слова, которые кажутся щебетанием птиц в весеннем лесу, когда слышишь ликующую мелодию и догадываешься, что птахи радуются любви и пробуждению от зимней спячки. Он больше не будет мучиться от того, что его никогда не сможет полюбить девушка, а будут всегда только жалеть и пользоваться, в уме думая о том, что с ним лишь временно, пока в сердце вакуум, который надо заполнить, чтобы сердце не сжалось, как воздушный шарик без воздуха.
Он застыл на ступеньках, глотая ледяной воздух, как рыба, выброшенная на лед. Воздух обжигал легкие, ему хотелось уйти под воду, туда, где он не доступен ничьему пристальному взору и где можно спокойно плыть, лавируя среди причудливых водорослей, чтобы потом залечь на дно, сливаясь с бурым заиленным песком. Он посмотрел вправо, туда, где на ступенях изумрудным светом горел фонарь, стилизованный под старинный, сделанный из окислившейся зеленоватой латуни, и изумился. Вокруг фонаря медленно кружили в танце светлячки. Облитые зеленоватым светом, словно налипшей патокой, крупинки снега парили вокруг аптеки, напоминая о той июльской ночи, когда они с мамой собирали светящихся жуков в заросшем саду. Он попытался поймать светлячка, подставил ковшиком ладони, чтобы тот плавно опустился ему в руки. Изумрудная искорка спланировала на ладонь, обжигая его своим ледяным холодом, тускло и безжизненно мерцая крупинкой снега. На ладони поблескивала вода. Он подумал тогда, что ничего нельзя удержать в руках: ни чудо, мелькнувшее в темной беззвездной, промозглой и одинокой ночи, ни жизнь, ни любовь, ни юность, ни стареющих родителей, — все-все растает без следа; и вода, и слезы — все испарится, как утренняя роса, чтобы потом вернуться грозовым ливнем с огненными вспышками молнии, перерезающими небо и ломающими в мгновение вековой дуб, превращая его в черные угли. Не стоит торопить время. Всему свой черед. Все пройдет, все отболит, чтобы потом обернуться новой болью. Ему будто открылся какой-то смысл жизни. Если у него плохой слух, то, значит, птицы должны петь внутри его, и он должен учить других слышать эту музыку. Он поймал еще несколько фосфоресцирующих снежинок в ладони, но и они растаяли, слившись с другими, утрачивая свое очарование. Мокрая ладошка на ветру начала мерзнуть, он натянул варежки и медленно побрел к дому. Потом вдруг начал убыстрять ход и побежал, как будто за ним гналась мысль, которую он оставил на ступеньках аптеки. Он несся по улице как сумасшедший, редкие прохожие шарахались от бегущего подростка, отходили с его пути, пугаясь безумного огня, вспыхнувшего в его черных зрачках. Он летел, как большая черная птица, пробегая дворы, улицы, переулки; бежал, жадно глотая холодный воздух, что резал горло ножами, но не чувствовал боли. Его сознание было не здесь, оно в каком-то третьем пространстве, где нет ничего, пустота Поскользнулся на раскатанной ледяной дорожке упал на колючий снег, обдирающий заплаканную щеку точно шлифовальной шкуркой, горло теперь сводило от саднящей боли, словно стоящие в нем комок оказался черным старым сухарем; руки жадно хватали снег, пальцы сгребали замерзшую землю, перебирали ее каменные комки, будто пальцы умирающего, который, обираясь, хватает холодные простыни. Сухарь в горле разбух и сто ял мокрым комком.
Он не знал, сколько времени летел по городу, медленно отходящему ко сну. Вот уже знакомый подъезд, дверь лязгает железными зубами, впуская его в свой тускло освещенный мир, пропахший куревом и кошками. Подойдя к двери своей квартиры, Тимур долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Руки его дрожали, они были как будто не его, совсем не слушались, как у соседа по подъезду с болезнью Паркинсона; ноги отнимались, подгибались, точно стебли травы под налипшим на листья снегом. Сердце ныло, как зуб с кистой, — он зажмурился и медленно опустился по стенке на заплеванный пол. Сел возле двери, откуда-то из глубины сердца поднялся колючий комок и остановился в горле, мешая дышать. Глаза наполнились слезами, в горле першило. Голова кружилась, как после качки на теплоходе. От опять теряется во времени. Ему вдруг кажется, что он маленький мальчик, которого наказали в детском саду, выставив за дверь. Опять эта могильная тишина, которая не дает ему покоя, он не может ее победить, хочется закричать, но сил на это уже нет. Пальцы не могут удержать ключ, они просто разжимаются. Ключ жалобно звякнул о каменный пол. Не услышал, а увидел, как приоткрылась дверь — и на площадку выскочила растрепанная и испуганная мама.
Сняв куртку и промокшие ботинки в белесых разводах, прошел в свою комнату и, не раздеваясь дальше, бросился на кровать, ткнулся носом в подушку, как слепой кутенок в мамкин набухший сосок. Пластинка крутилась все та же, все те же слова плыли по комнате: «Я люблю твоего друга. Мы с ним теперь встречаемся…» Опять комок перекрыл горло — и протолкнуть его не было никаких сил.
…Злата бежит ему навстречу, падает в его объятья, они валятся на сочную зеленую траву, не знающую, что ее зовут сорной. Острые травинки щекочут ему лицо, одна залезает в нос — и ему очень хочется чихнуть. Златин смех, звонкий и веселый, заполняющий окружающий мир, как веселые бубенчики на лошадках на Масленицу, — он его хорошо слышит, и музыка внутри него аккомпанирует этому ее смеху. Ее глаза цвета травы, в которых завораживающе мерцают светлячки, такие уже родные, любимые, наполнены счастьем; тонкие музыкальные пальчики с расслаивающимися ноготками в белых точках нежно теряются в его волосах, сплетаются с ними, будто корни с землей. Как он ждал этого! Его переполняет такая радость… Радость выплескивается наружу и течет по волоскам на коже, поднимая их, точно легкий ветерок, щекоча до заливистого смеха.