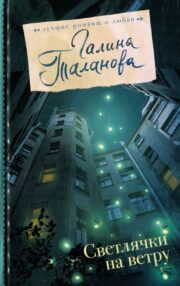Никак не мог различить слово «мне» и «мой». Просто у меня в голове каждое слово состоит из букв и из шума волнового. И мне очень сложно переключиться с волнового восприятия на обычное, как у всех людей.
И опять о картинках. У мамы есть такая книжка для глухих. Вот она мне очень сильно помогла. Там нарисованы действия. Допустим: «Зина моет раму». А рядом еще картинка: «Зина» и «рама». И понятно, где — Зина, а где — рама. Получается, что моет — это по стеклу водит тряпкой. А если в ванне моет? Тогда как? А потом я понял (это тоже мама объяснила), что «по стеклу водить тряпкой» и «грязь смывать» — это одно и то же: и там, и там грязь смывают.
Вот в чем для меня была сложность: я раньше с трудом понимал значения глаголов и местоимений.
Летучие мыши слышат ультразвук. Я, конечно, не мышь, но слышу где-то в этом спектре. Но одновременно — и как люди. Думаете легко так жить, как я? Когда половина жизни, считай, проходит впотьмах.
Поле — это такое излучение волновое, которое я слышу от каждого человека. Когда я в автобусе еду или, например, в толпе нахожусь, то мне очень сложно ощущать маму рядом. Вот когда я настраиваюсь на нее, то мне легко делается, потому что я тогда слышу все вокруг через нее. Предположим, говорит с ней какой-то человек, а я с мамы снимаю информацию.
Если бы я сейчас попал в «страну глухих», фильм такой есть, я бы не понял по их жестам, что они хотят сказать, а понял бы по образам, которые они создают в мыслях. Во всяком случае, маму сейчас осенило, она этого понять не могла до сих пор, а сейчас прониклась, что я внимательно наблюдаю за глухонемыми и смеюсь вместе с ними, когда они руками машут и смеются.
Почему я раньше не догадался объяснять свое поведение другим людям? Я думал, что они и так это понимают, а выяснилось, что нет. И вот сейчас я хотя бы успокоился. Почему многие не понимают этого нематериального мира? К старости все приходят к этому, все боятся умирать. А мне не страшно, я не боюсь, у меня есть защита. Она меня ведет по жизни и доставит на место по этому тубусу светящемуся. Когда я умру, то попаду в рай. Я знаю, что мир устроен так, что надо любить друг друга и не делать гадостей. А сам я часто гадости делаю осознанно, даже специально, чтобы досадить, будто в меня вселяется бес какой. Я сам знаю, что бес вселяется, но ничего не могу с собой поделать. Мне потом маму жалко, хочется ее погладить, как кошку, но я не могу. А если она подходит первая, мне кажется, что она жалеет меня, что я ущербный, и я брыкаюсь.
У бабы в последнее время почему-то часто стали летать воздушные шары по комнате, особенно ночью. Я заметил, это происходит перед смертью. И мама тоже говорит, что у нее сердце изношенное, но сама она очень жить хочет и молит бога, чтобы он ее не забирал. Я вот думаю, помогает ли бог или нет? Вот вижу событие: скорую смерть. Но теперь уже не так ясно и отчетливо, как раньше. Значит, можно вымолить, получается? У бабы смерть в поле стояла близкая. А теперь, вроде, отдалилась немного. Почему так? Значит, бог есть, и он помогает, если человек просит очень сильно?
Мне сложно складывать мысли в слова. Это будто ты из песка пытаешься построить снежный дворец. А ведь это песок, а не снег! И на дворе лето!
Болезнь с рождения забрала у меня чувство слуха. Потом дар полноценной речи. Я сижу на чужом празднике и улыбаюсь. Эта иллюзия того, что все в порядке, очень важна окружающим. Как клоун разрисовывает свое лицо: на белила накладывает румянец больного в жару; приклеивает себе толстый красный нос, точно его только что укусила пчела; прилепляет накладные ресницы, похожие на еловые иголки; напяливает парик, напоминающий пеньку, и обязательно надевает воротник гармошкой, из которого его забавная рожица выглядывает, точно подарочный букет из гофрированной яркой обертки, чтобы веселить окружающих, хотя в душе у него тоска и пустота, сжирающие, точно раковая опухоль, — так и я все время прячусь за маской. Эта иллюзия стайности очень важна окружающим. Даже тем, кто бросает на меня лишь короткие взгляды, только осторожно касается, считая, что пялиться неприлично. Даже тем, кто отводит взгляд, немного стыдясь своего здоровья в моем присутствии, хотя они не виноваты в моем недуге. Я представляю, что участвую в их беседе и понимаю, о чем речь, киваю и улыбаюсь. Мне тоже хочется что-то сказать, все равно что, лишь бы иллюзия продолжалась. Мои мечты незамысловаты и безамбициозны: подарите мне чувства. Я хочу слышать играющую музыку, под которую дергаются мои друзья, точно лягушки, к лапкам которых поднесли электрод, я хочу подпевать звучащей песне.
Я не боюсь одиночества, оно как мой друг. Но я хочу найти свою половинку. Я хочу семью и детей, которые будут состоять из маленьких разочарований и больших праздников. Мне не важно, будут ли мои дети самыми умными и красивыми. Главное, чтобы они были здоровы. Чтобы их первые чувства были основаны на познавательном любопытстве и любви к своим близким, а не на рассуждениях о несправедливости мира и зависти к сверстникам, которым дано то, что мне не будет дано никогда. Это как вода, вкуса которой не замечаешь, пока не окажешься в пустыне. А жить рядом с таким, как я, могут только мои родители и бабуля, наверное…
Живу в мире, который некто разобрал на миллиард пазлов и не попытался собрать. И теперь мне приходится ходить и собирать эти пазлы. Однако я понятия не имею, как их собрать и какую картину мира надо получить.
Мама сказала, что она не понимает меня и ее пугает то, как работает мое восприятие. И тогда я спросил: «А когда ты подходила и спрашивала меня о том, как я воспринимаю мир, что я чувствую, что мне интересно?»
И мама ответила: «Каждый раз, когда я пыталась тебя понять, ты агрессивно реагировал — и я боялась разбудить в тебе приступ раздражения и гнева». Я тогда сказал, что любовь как бы помогает переступить страх. Но мама ответила, что ей не помогает, что она никак не может привыкнуть к тому, что я такой… И тогда я стал маме объяснять, что несколько лет назад я даже за порог квартиры боялся выйти. Меня охватывала прямо паника. С кем-то разговаривать — вызывало вообще безумный страх. И я начал пытаться соотносить то, что у меня в голове, с тем, как это понимает обычный человек.
Я пояснил маме, что не хочу, чтобы она чувствовала себя виноватой, потому что это просто страх, основанный на боли. И я лучше кого-либо понимаю, что такое страх и боль! И я не обижаюсь и не осуждаю ее! Это привело маму в ступор. Я обнял ее, потому что знал, что это ее успокоит.
Я научился различать и запоминать паттерны мимики, жестов, телодвижений, запаха, которые у нормальных людей обозначают вещи, которые в моей голове были плавающими кусочками пазлов в большой луже, застывшей на утреннем морозе. Я хреново могу выражать свои эмоции и распознавать чужие. Я не знаю, как нужно реагировать. И потому я создаю некие паттерны, которые любой обычный человек примет за «понимание» и «поддержку». Мой мозг не понимает, зачем я делаю все это, — он просто работает.
Но я понял, что для того, чтобы люди поняли меня, знали, как я себя чувствую, мне постоянно необходимо говорить им о том, что со мной происходит, и спрашивать их о том, что они чувствуют и думают. Потому что иначе я не понимаю ничего!!! Мне необходимы субтитры к каждому действию, иначе это вызывает сильное напряжение в нервной системе.
Любые прикосновения ко мне только усиливают мою тревогу. Раньше и общение приносило тревогу. Но я научился распознавать паттерны мимики, жестов и фраз, чтобы уметь доносить свое состояние людям, которые не понимают, какие у меня проблемы. С тех пор общение меня успокаивает. Я веду дневник — это мой диалог с собой. Я разговариваю сам с собой, когда нервничаю. Когда я хочу унять тревогу, я начинаю разговаривать о своих чувствах и мыслях. Я научился говорить мягче, обнимать маму и бабушку, прикасаться к ним, когда они нервничают.
Представьте на минутку, что вы наполнены радостью, любовью и счастьем. Но ваше физическое тело не может выразить этого. Вы радуетесь, но улыбки на вашем лице нет. Вам очень хорошо, но все, что видят окружающие, это пустой взгляд мимо собеседника.