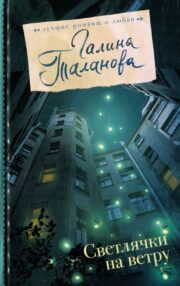71
Когда погиб Тимур, Викина знакомая, пережившая свою дочь, сказала ей:
— Время у вас сейчас такое — кричать, рвать на себе волосы и кусать губы до кровавых капелек, потом придет время — выть, словно собака в холодной августовской ночи, когда луна льет на землю свой равнодушный тусклый свет, будто отраженный от хирургических инструментов в операционной; затем наступит время — плакать до изнеможения и усталости, после время — грустить, сидя на дачном крыльце в хмурый день, когда осень начала метать свои листья, словно жонглер в цирке цветные кольца, а потом время — вспоминать… Вспоминать со смирением, с улыбкой печали, неуловимой, как тень облаков на лице в солнечный день в начале июня, когда одуряюще запах жасмин и голова кружится совсем так, как тогда, когда была молодой и вся жизнь была скрыта за снегопадом осыпающегося яблоневого и вишневого цвета. Это ступеньки длинной лестницы… Ее длина — ваша жизнь.
Она подумала о том, что ступеньки ее лестницы давно ведут вниз, только шагать по ним почему-то гораздо труднее, чем наверх. И она очень боится оступиться — и кубарем скатиться, ломая ребра и хрупкие маленькие позвонки.
Задавала себе вопросы: «Почему я? За что? Это что, наказание или наоборот? Если наказание, то за какие такие грехи? Если подарок, то не надо таких подарков… Если я расплачиваюсь не за свои, а за чужие грехи, то кто дал право наказывать именно меня? Раскрутили рулетку где-то наверху… Фишка — на красном, а выпало черное… В результате банкрот».
Очень часто под тяжестью этих вопросов мы злимся. Злимся не только на себя. На себя даже, наверное, в последнюю очередь. Мы злимся на окружающих, потому что они счастливы. Злимся на близких, что они не всегда нас слышат и разделяют нашу боль. Злимся на них за то, что не смогли удержать на краю родного человека. Мы злимся на врачей, потому что они не помогли. Мы злимся на Бога, потому что он отвернулся от нас в самый важный и самый нужный момент.
Листая дневники сына, только сейчас открывшиеся для нее, Вика размышляла о том, что мы злимся иногда даже на собственных детей, потому что они ушли, а мы остались здесь, без них, и как жить дальше мы не знаем, — они нас бросили… Подумала о том, что не стоит ни завидовать, ни злиться — это ИХ жизнь, других людей.
Чувствовала себя вялой мухой, очнувшейся посреди глубокой осени от включенных батарей, что ползла по грязному стеклу, заторможенная, часто замирающая, как будто раздумывая, что теперь делать и куда ползти дальше и почему ее жизнь сузилась и преломилась, как нагретая стеклянная трубка.
* * *
Когда думы печальны,
Даже тот светлячок над рекою
Кажется мне душой моей — тело покинув,
Она искрой мерцает во мраке…
Жизнь прошла так быстро и нелепо
72
Неожиданно распогодилось. Стоял настоящий теплый июльский день, хоть было около двадцати градусов, но солнце припекало так, что Вика почувствовала легкую дурноту. Подумала: «Это от влажности, наверное». Зашла в воду, которая успела остыть за две недели холодов и дождей, что стояли стеной и заслоняли луга и реку. Обожгло ключевой водой родников, но через две минуты она уже не чувствовала ледяного прикосновения реки. Она размеренно плыла вдоль берега по своему обычному пути: вот тополь, на который они так любили залезать в детстве; вот старенькая обшарпанная соседская «казанка»; вот причал с красавцами-катерами новых толстосумов; вот развезенная после дождей глинистая дорога, ведущая в деревню, вся в глубоких рытвинах со стоячей водой, в которой живут лягушки и караулящий их уж; вот плакучая ива, склоняющаяся к воде и кланяющаяся своему отражению. Доплыла до заводи с желтыми кувшинками, стебли которых казались ей перепутавшимися змеями — и она всегда боялась в них заплывать. Кувшинки покачивали своими восковыми желтыми головками, распластывали свои большие листья в форме сердца на рябящей поверхности воды, мелко дрожа. Она повернула обратно. Где-то на середине пути, в районе катеров, почувствовала, что плывет с одышкой. Удивилась: обычно она плавала легко, даже когда встречный ветер плескал в лицо пригоршни воды. Доплыла до понтона, чувствуя, как сердце с глухим стуком выбиваемых во дворе ковров бухает в груди. С трудом подтянулась на руках и вылезла на понтон. Медленно переоделась и пошла домой. Галоши опять налепили на себя килограммы глины — и идти становилось с каждым шагом все тяжелее. Она свернула на траву, чтобы оставить в мокрой траве ненужный балласт. По-прежнему ласково светило солнце…
Прошла мимо дерева, на котором детвора устроила «генеральный штаб». Дерево было другое. Игры те же, что и в ее детстве. Все повторяется. На ствол приземистого тополя были набиты перекладины, выкрашенные зеленой краской. В основании кроны дерева устроена постель, накрытая зеленым одеялом, оборудованы стол и кресла. Вывешен черный пиратский флаг с черепом и костями. С другой стороны дерева сооружена настоящая виселица, тоже выкрашенная той же зеленой краской, через верхнюю перекладину которой перекинута веревочная петля. Улыбнулась. Дети идут дальше своих родителей. Они когда-то забирались на такое дерево без ступенек, а просто по впадинам и выступам в коре. И генерального штаба у них не было, и кровать отсутствовала. Но кресла были. Сидели там часами, общались, вглядываясь в дорогу, — и, завидев подъезжающих родителей, спускались их встречать.
С трудом поднялась по скользкой глинистой горе, ощущая, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди и поскачет резиновым мячиком по склону, заросшему крапивой, увешанной желтыми пылящими сережками, густо покрытому колючками, что все называли собачками, и сизым репейником с соцветиями липучих шариков, некоторые из которых раскрыли свои розовые пасти. Еле взошла по лестнице к себе на второй этаж, отперла дверь — и буквально рухнула на кровать, чувствуя, что сердце продолжает бешено барабанить в грудину, пытаясь вырваться наружу. Она лежала и смотрела через открытую дверь балкона, как сосны плавно качают своими мохнатыми лапами, и думала о том, что все конечно. Когда-то вот так лежала здесь и смотрела на сосны ее бабушка, теперь лежит она, а сосны все зеленеют. Сердце продолжало стучать и стучать, будто разогнавшийся с горки поезд.
Ночью приснился странный сон. Будто карабкается она по приставной лестнице за своей молодой коллегой. Лестница уходит высоко в небо. Коллега стоит где-то наверху: не видно, на чем, но она видит ее саму смеющуюся и как она тянет к ней руки, готовая подхватить. Остается последняя ступенька. Лестница какая-то самодельная, сделанная из корявых стволов обструганных молодых деревьев, не гнилая, на ней видны остатки обчищенной коричневой коры, облепившей желтую древесину, будто корочки на засохших ранах. Она поднимается до последней ступеньки-перекладины, ставит на нее ногу — и нога срывается. Она не понимает, почему. Смотрит и видит, что последняя перекладина с одной стороны оторвалась от правой тетивы. Без этой последней перекладины она никогда не сможет подтянуться и забраться туда, где стоит ее коллега. Она понимает это — и просыпается. С удивлением для себя вспоминает, что уже видела этот сон в самых разных вариациях. Было уже, что подгнившая ступенька ломалась так, что она просто летела с большой высоты вниз — и просыпалась. Было, что приставная лестница, только та лестница была серая, точно сама плесень, и уже трухлявая, просто сама падает вниз, не устояв на глинистом размокшем грунте. Было, что она срывалась, перебираясь с последней перекладины на невидимую опору, там, наверху. Она никогда не могла добраться до той невидимой ей еще, но уже очень близкой высоты, легкое дыхание которой она чувствовала и возбуждалась от ее близости. Она всегда не успевала разбиться или покалечиться, переломав себе руки, ноги и позвоночник: просыпалась. Но почему-то помнила все эти сны. Они лежали на донышке ее души булыжником, пригвождая ее к земле и давая понять, что притяжение земли существует, и она не птица, чтобы лететь вверх, она может лететь только вниз, на камни и кусты, ощерившиеся всеми своими колючками, спрятанными под листьями и нежными цветами. Эти сны проходили через всю ее жизнь и прокручивались с неминуемой регулярностью, словно любимые кинофильмы. Ощущение падения, страха и неотвратимости жило в ней, точно вечнозеленая хвоя сосен, провожающая печальным взглядом расщеперившиеся шишки.