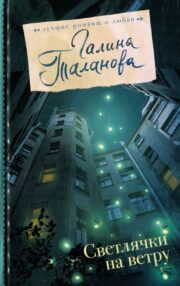Она лежала в постели, отвернувшись к стене, что была рядом с ее лежбищем, стене с вытертой штукатуркой, под которой проглядывала серая и грязная известка, что она иногда любила трогать пальцем и пробовать на вкус, ощущая на языке похрустывающий песок и мел. Лежала и разглядывала этот вытертый узор на побелке, думая о том, что скоро она проснется и надо тащиться в школу. Потом она захлебывалась слезами, все так же лежа в постели лицом к вытертой стене в маленьких оспинах, которые она продолжала нервно ковырять указательным пальцем, хотя побелка, подкрашенная лимонным колером, давно была съедена — и теперь девочка питалась известкой, в которой мелкий речной песок хрустел на зубах. Иногда ей казалось, что это всего лишь какой-то новый сон. Но сон не растаял, она прорыдала два выходных — и в понедельник папа с мамой отвезли ее в эту страшную больницу. Один день Вика пролежала в коридоре — и все дети бегали на нее смотреть. Она чувствовала себя очень неуютно и знала, что плакать на людях нельзя, но слезы продолжали душить ее — и она отворачивалась к стене, покрытой голубой масляной краской, которую нельзя было есть, и беззвучно плакала в подушку. На другой день ее перевели в палату, где лежало четырнадцать детей от трех до пятнадцати лет. Кровати стояли еще ближе, чем она видела в детском саду. Некоторые дети совсем не вставали. Соседская девочка доверительно ей сообщила, что она здесь уже полгода, а Вику положили на кровать, где вчера умерла Наташа. Вика представила, что она лежит на кровати, где только что был покойник, и какой-то совершенно новый, незнакомый до этого дня страх, будто паук муху, парализовал ее. Ей казалось, что привидения выглядывают из всех углов комнаты и тянут к ней свои костлявые руки, которых у них — по шесть, чтобы легче было сграбастать детей в охапку и унести. Ее страх усугублялся еще и тем, что дети постарше после того, как дежурная медсестра тушила свет и закрывала дверь, рассказывали друг другу страшные сказки. Любимыми их историями оказались рассказы про красную светящуюся руку, измазанную кровью, которая влетала в форточку и душила спящих. Ее рассказывала самая старшая девочка Света с настоящим перманентом и остатками вишневого маникюра на обгрызенных ногтях. Девочка лежала здесь второй месяц, мама приходила к ней редко, и помимо рассказов о красной руке она делилась с девочками постарше, что живет с мальчиком как муж и жена и очень его любит. Мальчик этот приходил к ней один раз: Света сказала, что ее навестил брат, когда врач спросила о том, кем ей приходится юноша. Врач, видимо, не поверила и переспросила потом у Светиной мамы, правда ли, что приходил брат. Мама, прогоняя со своего лица появившееся было удивленное и растерянное выражение, подтвердила, что это правда. «Брат» обнимал и целовал Свету на свидании, совершенно не обращая внимания на тринадцать любопытных глаз, блестевших со своих кроватей, словно начищенные металлические пуговицы, поймавшие солнечный свет. Эти двое были будто облиты тем завораживающим светом новогоднего театрального представления, где все декорации люминесцировали сиреневым, розовым, голубым и зеленоватым свечением.
В больнице были большая игровая комната и кинозал, где детям крутили сказки и всякие мультики. Эти две комнаты были общие на два отделения. В игровой Вика и познакомилась с Никитой, лежащем в гематологическом отделении. В игровой всегда было несколько детей, которые выделялись от остальных ребятишек тем, что они лысые, и тем, что слово «смерть» они произносят так же буднично, как слово «обед». Для Вики же смерть представляла что-то такое страшное и непостижимое. Когда в их подъезде появлялась крышка гроба, Вика боялась туда выходить. Просила папу ее проводить. Стремглав пробегала мимо страшной крышки, украшенной рюшами и оборочками, будто выходная кофточка.
Один лысый мальчик подошел к Вике и сообщил, что его зовут Никита, и спросил, не умеет ли она играть в шахматы. Вика немножко умела: научил папа. Потом посмотрел на Вику, погладив свою блестящую макушку, и сказал:
— Вот, теперь моя мама на шампуне сможет экономить, а твоя на твоей копне волос разорится!
К ним подошла лысая девочка лет шести, посмотрела на Викину копну и проговорила:
— Я лучше умру, чем соглашусь еще раз капать химию!
Другая лысая девочка радостно проговорила:
— Зато я скоро теперь домой поеду!
Вика заметила, что и Никита, и девочка, готовая умереть, снисходительно посмотрели на собирающуюся домой, переглянулись и как по команде синхронно иронически улыбнулись. В глазах их читалось: «Как мало ты еще в этой жизни понимаешь!» Это были глаза взрослых людей, где боль и отчаяние усмирялись мудростью и философским отношением к жизни. Вика потом увидит, как часто менялись глаза этих детей: только что в них читались страх и боль — и вот уже отчаяние затянуло их какой-то мутной пленкой на поверхности воды, затем пленка стала бензиновой, радужной, и вот уже от брошенной кем-то спички бензин полыхнул — и огонек радости и интереса зажегся в только что тусклых глазах. В их глазах торчала кустом, потерявшим листья, не только физическая боль, которая для большинства здешних обитателей стала частью повседневной жизни, — это в большей степени была боль душевная… боль памяти о том кошмаре, который смерчем периодически налетает на отделение и напоминает о том, что все смертны, даже маленькие дети… Смерть каждого в этом отделении — разрушение иллюзий всех остальных выйти отсюда живым…
— А часто здесь умирают? — спросила Вика.
— Смотри сюда! — мальчик постарше достал из кармашка спортивных брюк толстую записную книжку. Она была вся потрепанная. — Я записывал сюда своих друзей, с которыми знакомился в разных больницах. Здесь все адреса с первого дня моей болезни.
Вика взяла в руку записную книжку. Она была на две трети заполнена и залистана до дыр… Адресов было много, очень много. Но на первой странице все адреса были перечеркнутыми, и на второй, и на третьей… Вика быстро пролистала блокнот. И заметила, что большинство записей было перечеркнуто.
— Это… — Вика не могла продолжить…
— Да, это те, кого уже нет в живых.
— Как ты живешь с этим?
— Я живу благодаря этому! — Мальчик постучал пальцем по одной из неперечеркнутых записей. Я живу благодаря вере в то, что мне повезет так же, как им. Знаешь, как хочется верить, что ты из числа тех, кому суждено победить болезнь? И знаешь, как страшно хоть на мгновение представить, что твое имя в десятках таких вот записных книжек однажды вычеркнут…
Вика вычеркнет адрес этого мальчика из своей записной книжки спустя пару месяцев после смерти Никиты.
78
Однажды, когда Вика пошла в игровую, ей навстречу попалась инвалидная коляска, в которой вывозили мальчика из гематологического отделения. Бледный лысый мальчишка лет двенадцати, весь в конопушках, усеянный ими так, что казалось, что к нему приклеились зернышки недоспевшего мака, сидел на коляске без подножек, поджав ноги к животу. На нем была футболка с зайцем из мультфильма «Ну, погоди!» и зеленые шорты. Футболка вся была алой, заяц был завернут, как тореадор, в алый плащ и даже его уши покраснели. Лишь небольшие участки на рукавах выдавали истинный цвет футболки: когда-то он был ярко-лимонный. Возле лица мальчик держал сложенную пеленку. Пеленка эта тоже была вся алая и насквозь мокрая. На лице, руках, ногах… везде была кровь. Вся каталка была будто обсыпана облетевшими лепестками мака. Когда он на мгновение убрал пеленку от лица, то кровь ударила из носа, как из открытого крана. Мальчик снова прижал пеленку к лицу. Вся она была пропитана до последней нитки — и ее надо было уже отжимать. Между пальцами полились ручейки алой крови. Мальчика везли в реанимацию. Вика услышала, как кто-то из ребят, направляющихся в игровую, сказал: «Это конец…»
Санитарка принялась ловко затирать красные полоски на полу, что тянулись как след от кровавой колесницы.
Медсестра привела в игровую его сестру, девушку лет семнадцати, которая осталась посидеть с братом, пока мама возила куда-то на консультацию анализы сына. Девушку посадили на мягкий плюшевый диванчик. Она сидела неестественно прямая, как палка, будто боялась облокотиться на спинку дивана, и смотрела на их шахматную доску. Вика подумала тогда, что она не видит эту доску, а просто ее взгляд остановился в пространстве и во времени. Девушка тихо всхлипывала, и по ее щекам таким же неостановимым потоком, как кровь у ее брата, текли слезы. Чья-то мама принесла ей воды и мягко обняла за плечи. Вика услышала, как звякнули зубы о край фарфоровой чашки: будто монетку бросили в фарфоровую копилку, и вода побежала по подбородку девушки, мгновенно посадив на ее грудь в розовой кофточке пятно, которое показалось Вике кровавым, только более темным, чем у ее брата. Губы ее беззвучно шевелись, точно она разговаривала сама с собой или читала молитву. А может быть, она спрашивала: «Почему он?»