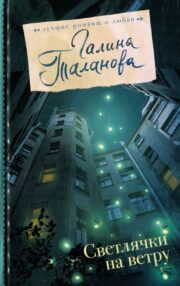Вике захотелось уйти к себе в палату, и она сказала Никите, что не может сегодня играть. Когда она вышла в коридор, мальчика везли из реанимации назад. Глаза мальчика были полузакрыты.
— Не взяли, — пояснил Никита. — Боятся, что он им статистику подпортит.
Мальчик открыл серые глаза, в которых плескалось равнодушное зимнее море. В них не было страха. Там было только непонимание того, что происходит, и какое-то растерянное удивление. Все его лицо было измазано кровью, но даже так было видно, что кожа его совершенно белая, без малейшего розового оттенка, и только веснушки казались теперь созревшими зернышками мака. Ноги в полосатых сереньких носочках, обляпанных каплями крови то и дело сползали с коляски и волочились по полу. Голова ребенка постоянно свешивалась набок. Врачи стали теребить его, он открывал глаза, смотрел на них мутным взглядом, как-то виновато оглядывался и снова прикрывал глаза. Он умирал… Умирал на глазах у всех детей…
Вика отступила назад в игровую. Все дети застыли в паническом ужасе, сковавшем их. В комнате стояла звенящая тишина, какая бывает в теплый летний день, когда стайка толкунцов повисает серым столбом над ухом. Только два трехлетних мальчика отнимали друг у друга маленькую машинку скорой помощи, не понимая, что происходит.
Когда Вика через два часа вышла в коридор, она, как нарочно, опять наткнулась на каталку, которую вывозили из гематологии. Лежащее на каталке маленькое тельце было покрыто белой простыней, на которой отпечатались ладони мальчика, испачканные его алой кровью… Свесившийся край простыни колыхался при движении каталки — и казалось, что рука летит. Красная рука… Вика вспомнила сказку, которую рассказывали в палате на ночь. Отныне красная рука будет преследовать Вику по ночам не один год. Она будет врываться в ночную тишину и летать перед ее глазами. Вика смотрела как загипнотизированная на белую простыню с принтом красной ладони и не могла сделать ни шагу. Было страшно от того, что вот этот его след еще не высох, а мальчика уже нет и никогда больше не будет. Потом повернулась и быстро побежала в палату. Плюхнулась на постель, отвернулась к стене и заплакала, заплакала по мальчику, которого она видела сегодня первый раз в жизни. Почему? Почему все так случается? Ей хотелось провалиться в сон и сбежать от этого кошмара, навалившегося на нее. Это «Почему?» ввинчивалось в мозг длинным саморезом, рождая трещину в представлении маленькой Вики о мире и круша ее сознание, превращая мир, полный разноцветных игрушек, в осколки искореженной пластмассы и железа.
Вдруг она услышала где-то далеко в коридоре страшный вопль, который рвался в палату, стуча кулаками и барабаня в дверь ногами в тяжелых бутсах: «Почему?» Это кричала сестренка мальчика. Она очень страшно кричала. Вика никогда еще не слышала такого крика молодого зверя, пытающегося перегрызть собственную лапу — лишь бы выбраться из западни.
Наибольший страх нагоняло то, что все взрослые вели себя так, как будто ничего не случилось, как будто так и надо, словно смерть — это совсем просто и нестрашно. Казалось, что оплакивают мальчика только дети, а всем взрослым наплевать на то, что случилось… Врачи все так же наигранно улыбались детям, медсестры разносили на подносе в прозрачных чашечках таблетки, похожие на конфетки-драже, что можно медленно рассасывать, смакуя их мятную сладость и изюм в глазури. Создавалось впечатление, что взрослые живут в одной реальности, а дети в совершенно другой. И реальности эти никак не пересекались, разделенные пространством, словно два континента большой водой. И было невыносимо страшно, что вот завтра не станет кого-то еще… Вика сидела на кровати и плакала, слезы падали на розовую хлопчатобумажную пижаму, окрашивая ее в темно-красный цвет. Только потом, когда она пошла в столовую, в которой питались ходячие дети из двух отделений, к ней с наворачивающимися опять слезами, что выступали будто из пропитанной насквозь водой губки, которую давили жесткими пальцами, подошел лысый мальчик лет шести и сказал: «Привыкай!» Потом он сел за столик и спокойно начал наворачивать борщ. Дети из гематологического отделения сели отдельно у стены на кожаный диванчик. Никитка сидел с ними. Эти одиннадцать ребят разного возраста прислонились, тесно прижались друг к другу, точно замерзали на холодном ветру, некоторые положили руку соседу на плечо. Они делили между собой свое горе, они пытались прийти в себя после того, как ураган смерти пронесся над ними… Сегодня он забрал не их. А завтра? Еще утром многие из сидящих на диванчике верили в то, что скоро выздоровеют, что у них будет нормальная жизнь, где можно будет стоять в воротах и отбивать летящий тяжелый мяч. Сейчас в это не верил никто… Даже Миша — трехлетний малыш… он тоже плакал как-то по взрослому, а не так, когда капризничал… Все чувствовали одно: что смерть показала свою недюжинную силу и напомнила о том, что тут она хозяйка.
Один мальчик вдруг подскочил с диванчика, скинув руку с плеча лысой девочки лет семи, напоминающей Вике маленькую папуаску, которую она видела по телевизору, и крикнул: «Ну, кто следующий? Я?» Все вздрогнули от этой фразы. Он сказал вслух то, что думал в тот момент каждый из этих ребятишек. Самая старшая девочка властно шикнула на паникера: «Прекрати!» Он снова сел и бессильно заплакал, слезы покатились по его белым щекам, похожим на подошедшее в кастрюльке тесто, он захлюпал носом и закашлялся. Его кашель сотрясал всю столовую, точно громовые раскаты, мальчик словно захлебывался в воде. «Папуаска» вытащила из кармашка аккуратно сложенный платочек, протянув его, как палку тонущему в болоте. Его вопрос снова и снова повторялся в Викиной голове, будто она нажимала на брюшко игрушки-повторяшки. Ей почему-то стало невыносимо страшно, что следующая — она. Да, она! Почти здоровая, хорошо себя чувствующая, но страх в душе рос, точно холмик насыпанной земли у вырываемой ямы, становился все сильнее, и ей казалось, что стоит вернуться в палату, как смерть заберет и ее, накрыв с головой простыней. Эго был панический страх, от которого холодело все внутри, кончики рук и ног становились ледяными, словно она долго стояла на морозе на автобусной остановке, и кровь отливала от лица и съеживалась, свертываясь, в тяжелый комок в груди. Казалось, что лучше умереть сейчас и здесь, чем вернуться туда, в палату, где кроватки стоят заснеженными могилами, которые Вика видела, когда они как-то шли с папой мимо старого кладбища у церкви, затерявшегося в центре подступившего и окружившего его города…
Вика есть в тот день ничего не смогла. Водила в щах ложкой, слушая скребущий душу звук, надрывающий сердце. «Привыкай!» Какое кощунство! Разве с этим можно жить дальше?
Большинство детей в этот день подавленно молчали, точно у них опух язык; жались по углам, уткнувшись в книжки, и смотрели поверх текста на открытой и не переворачиваемой странице. Взгляд уносился вдаль, где маленький мальчик в алой футболке ехал в инвалидной коляске в темную ночь, комкая в руках простыню, расцвеченную маками на снегу.
Вика тоже держала в руках книжку, «Алиса в Зазеркалье», пахнущую свежей типографской краской, но буквы в ней двоились, троились, качались, точно комары-тол куны на ветру. Викой вдруг овладело желание бежать из этого страшного места. Бежать, не глядя, лишь бы подальше. Она просто не могла тут больше находиться, ей казалось, что красная рука вцепилась в нее и тянет куда-то за собой… «Уйти, уйти, уйти!» — это снова и снова крутилось в ее голове.
Она запихала все свои пожитки из тумбочки в пакет, надела на пижаму спортивные штаны и джемпер и, крадучись, точно кошка, караулящая мышь, незаметно вышла из отделения на лестницу. Спустилась этажом ниже — и снова налетела на каталку, накрытую простыней, которую завозили в лифт два санитара. Тело на каталке было побольше, чем в первый раз, и простыня была белая, но Вика уже знала, что под простыней. Вику объял такой ужас! Она бежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, боясь того, что ее остановят. Больница показалась ей лабиринтом, из которого нет выхода. Она открывала какие-то двери, натыкалась на незнакомые отделения и лаборатории и наконец о чудо, выскочила на улицу. На улице накрапывал мелкий осенний дождь, барабанящий по пожелтевшим листьям, точно по клавишам печатной машинки. На тротуаре стояли мутные лужи, в которых плавали принесенные ветром свернувшиеся желтые листья, похожие на маленькие игрушечные лодочки. Домашние мягкие тапочки с двумя рыжими помпончиками на шнурке, завязанном бантиком, тотчас промокли, и Вика чувствовала ледяной холод, сковывающий ее пальчики. Она побежала, но очень быстро стала задыхаться, закашлялась так, что прохожие стали оглядываться на странную девочку, не по погоде одетую, уже мокрую до нитки. Она испугалась и, кашляя так, что все ее внутренности выворачивало наизнанку, свернула в ближайший двор. Высморкалась, прокашлялась и дальше пошла медленным прогулочным шагом, размазывая капли дождя и слезы по лицу. Две остановки прошла пешком, боясь, что ее хватятся и возвратят в больницу. Свернула к автобусной остановке, на которой было полно народа, назвала какой-то тетеньке улицу, сказала, что заблудилась, и попросила помочь ей сесть в нужный автобус. В автобусе было битком, тепло, никто не спрашивал с мокрой зареванной девочки билета. Она стояла зажатая между чужими горячими телами, словно около печки, прижимаясь щекой к животу какого-то мужика средних лет. Слезы по-прежнему стекали по щекам, но никто в автобусе не спросил ее, почему она плачет: всем было безразлично.