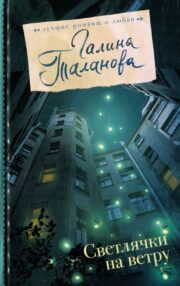Когда она позвонила в дверь, открыла мама и, увидев ее на пороге, мокрую до нитки, продрогшую так, что верхние и нижние зубы стукались друг о друга, будто кто-то чокался фарфоровыми бокалами, удивленно всплеснула руками:
— Это что за явление?
— Мама, там умирают! Я боюсь там умереть! Я больше туда не вернусь!
Вика нырнула в горячие материнские руки, спряталась от мира, уткнувшись в теплый живот, и зарыдала в голос, чувствуя, что ее гладят по вздрагивающим лопаткам и стаскивают с нее мокрую одежду. Потом была горячая ванна, где она лежала, отогреваясь, но белая кафельная плитка казалась ей почему-то комнатой, куда повезли того мальчика. Но мама несколько раз заглядывала в ванную — и страх отступал. Потом она лежала в постели, и ее поили горячим чаем с живой малиной, размешанной в нем, и читали про волшебника из Изумрудного города. Пока ей читали, Вика не плакала, а ночью, когда родители ушли к себе, слезы снова подступили к глазам, будто и не уходили вовсе, а только ненадолго спрятались за мокрыми веками и стояли там, чтобы снова выйти наружу, как только погасят в спальне свет… Она всхлипывала, кусая уголок пододеяльника… Вдруг ей почудилось, что кто-то стучит в окно… Скрипнула от ветра форточка — и ей показалось, что в комнату влетела красная рука, готовая вцепиться в ее горло мертвой хваткой бультерьера и унести с собой… Она закричала.
Прибежали родители, включили свет и гладили ее по мокрым волосам, прилипшим к горячему лбу. Потом папа принес раскладушку и лег рядом. Свет больше не выключали.
На другой день у нее поднялась температура, она вся горела, ей мерещилось, что красная рука обжигает ее, как раскаленная головешка… Дальше она увидела снова белые халаты, окружившие ее, как деревья в зимнем лесу; обожглась о ледяные руки, задирающие ее мокрую, прилипшую к телу рубашонку; почувствовала на груди холодок фонендоскопа, показавшегося ей скальпелем, готовым располосовать ей грудь; вздрогнула от осиного укуса в ягодицу — и провалилась во тьму. Там она сначала плыла на волнах, затем ей протянули руки и затащили в лодку, которую мотало на волнах так, что ее тошнило, закутали в теплое сухое одеяло с головой… Дальше ей показалось, что лодка оторвалась от воды и ее несли на руках в ней по небу так, как будто она уже умерла. Лодка качалась, точно на волнах, и Вика все время ударялась о холодный жесткий борт.
79
Вике чудилось, что большой черный медведь пришел к ней в гости и сел на грудь. Медведь был добрый и нестрашный, протягивал ей банку с медом, но она задыхалась и никак не могла глотнуть из этой банки. Медведь жарко дышал ей в лицо и облизывал ее горячим языком, словно большая ласковая собака. Вика почувствовала, что задыхается от его жара, запаха немытой шерсти, а мед попал ей в ноздри — и закупорил их сахарными пробками… Она снова провалилась в черноту…
Дышать, дышать, дышать… Вика глотала ртом воздух, точно скользкая рыбина, брошенная на лед. Ей казалось, что сердце сейчас выскочит из груди, взорвав грудную клетку. Она никогда не думала, что это так мучительно: не дышать. В ушах шумел водопад, жилка на виске колотилась, точно ночная бабочка о стекло, увидев за ним свет. Она чувствовала, как кровь покидает ее органы и приливает к лицу, словно волна от промчавшегося по глади катера. Дышать, дышать, дышать… Если она не глотнет воздуха, который миллионы людей пьют просто так, не замечая его вкуса, она погибнет. Удушье мучительно… Ей мерещилось, что красная рука подлетела совсем близко и сжимает ее горло скрюченными пальцами. Она однажды видела такие цепкие пальцы у старухи, схватившие, больно ущипнув, ее за рукав в автобусе, когда автобус покачнулся. У нее на руке потом осталось пять синих кружков, похожих на чернильные пятна. Она тогда никак не могла вырвать руку, за которую ухватилась старуха. Сейчас она подумала, что, может быть, старуха цеплялась за нее, как сорвавшийся в пропасть за траву на скале. А за что цепляется красная рука? Ее хотят увести в пропасть или забрать с собой на небо, взяв цепкой рукой за горло точно так же, как аист в своем клюве приносит младенца. Дышать, дышать…
Дышать, дышать… Веснушчатый молодой врач с обеспокоенным лицом суетился у ее постели. Круглое лицо, похожее на недоспевшую дыню. Она прочитала на бейджике: «Отделение реанимации». Вика попыталась найти свое отражение в его серых глазах. А он отводил взгляд… «Что-то не то…» — искрой пронеслось у Вики в голове. Не поднимая на девочку глаз, врач слушал ее легкие, в которые почти не поступал воздух, считал аритмичный пульс, стучавший как пулеметная очередь, короткими учащенными залпами, глубокомысленно рассматривал ее синие пальцы рук, точно девчушка перемазалась в чернике. Он закончил осмотр, встал — и по-прежнему не смотрел Вике в лицо: разглядывал начищенные носки коричневых ботинок, в которых отражалась лампа дневного света. Ни слова не говоря ребенку, бережно, заботливо провел рукой по маминому плечу и… вышел…
Очнулась с большой надувной подушкой рядом. Подушка была похожа на матрас, на котором она плавала на даче. Только тот был матрас, а тут небольшая подушка, и зачем-то от подушки тянулась трубочка ей в нос. Вика хотела выдернуть трубочку, но мама перехватила ее руку.
— Обожди еще немного. Тебе лучше, мой сладкий?
И опять мучительная одышка… опять провал, будто падаешь с балкона на освещенный вечерний город, подмигивающий тебе огнями реклам, которые кажутся издалека новогодними фонариками, а ощерившийся точеными пиками высокий забор городского парка — верхушками елей… Затем странный тошнотворный вкус резины на губах… Потом Вика будет уже узнавать этот вкус реаниматоров и искусственного дыхания на искривленных последней судорогой губах.
Была глубокая ночь, когда Вика открыла глаза. В первый момент она не поняла, где она, будто утром проснулась — и пора в школу. Но затем увидела, что она снова в комнате, где кровати стоят рядами, — и поняла, что ее вернули в больницу, поместили в ту же палату, откуда она сбежала. Рядом сидела осунувшаяся мама с лицом, похожим на мятую простыню в вагоне поезда дальнего следования, и не сводила с нее воспаленных глаз.
80
У Вики оказался плохой анализ крови, и ее перевели в отделение к Никите. С ней в палате лежала светленькая девочка Лена десяти лет. Лена в первый же день, горестно вдохнув, будто старушка, сказала ей:
— Врачи отказываются красить мои кровяные клетки в розовый цвет. Смотри, как выпадают мои волосы. — И выдернула, будто из грядки пучок сорной травы, высохшей под жарким южным солнцем, клок своих свалявшихся волос…
На другой день у Леночки пошла носом кровь. Кровь шла не очень сильно, но не останавливалась. Леночка лежала на спине и держала на носу пластмассовую баночку из-под майонеза, набитую снегом, которую принес кто-то из родителей. На груди у нее было полотенце, медленно окрашивающееся в алый цвет, которое придерживала морщинистой рукой бабушка Лены. Мама девочки стояла в коридоре, обессиленно прислонившись к стене, и плакала. К ней подошла мама Никиты и спросила:
— Что случилось? Леночке стало хуже?
— Крови нет для переливания, не дают больше, говорят, что осталось только три флакона, это неприкасаемый запас. Для кого ее берегут? Для блатного ребенка, а Ленуся пусть так погибает? У нее гемоглобин сорок восемь уже неделю. И доноров нет!
Женщина начала захлебываться слезами, закашлялась, стала мелко икать и елозить головой по холодной кафельной стене.
— А какая группа нужна?
— Вторая.
— И у нас вторая. Я донора для Никиты нашла. Три дня искала, давай он для Лены кровь сдаст, а мы еще пару дней продержимся. Может, еще кого-нибудь найдем…
Вика боязливо зашла в палату — увидела полотенце на груди Белоснежки-Леночки, наполовину окрашенное будто бы акварельной краской, когда рисуют сугробы, на которые брызнуло заходящее солнце в ветреный морозный день. Солнце внезапно закрыл налетевший черный смерч: он оторвал Вику от земли сильными руками, подхватил и понес куда-то по черному узкому туннелю, в конце которого брезжил все тот же розоватый свет заходящего, тревожного радиоактивного солнца, внезапно вспыхнувшего, точно от сильного ветра тлеющая головешка.