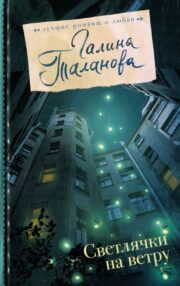81
И снова изнуряющая одышка… И снова провал в темноту, где взрываются разноцветные петарды, расцвечивая небо огнями, распускающимися мохнатыми астрами и хризантемами… Опять тошнотворный вкус резины на губах. Реаниматоры приходили к маленькой Вике уже не первый раз, делали на глазах у всей палаты искусственное дыхание, но забирать к себе ее почему-то отказывались. Она умирала на глазах у всей палаты, а ее соседка, пятилетняя Машенька, бросила на кровати свои куклы и убежала в коридор. Медсестра искала вену на исколотой руке и никак не могла в нее попасть: Вика ойкнула от боли — и вышла из своего цветного беспамятства, расцвеченного праздничными салютами. Краем глаза она видела ноги реаниматора в черных кожаных тапочках и зеленых штанах… «Зеленый цвет — цвет жизни, цвет травы…» — почему-то подумала она. Увидела, что из тумбочки у соседней кровати тоже выглядывают ноги в маленьких фетровых тапочках в синюю клетку. Дверь тумбочки была приоткрыта и подрагивала.
— Машенька! — позвала Вика перехваченным голосом.
Реаниматор приотворил дверцу тумбочки — и Вика увидела, что Маша сидит в ней, уткнувшись лицом в согнутые коленки и закрыв уши ладонями, тихо всхлипывая.
— Машенька! Это что такое? Ты зачем туда забралась?
— Мне страшно… — жалобно отозвалась та, оторвав заплаканное лицо от затекших коленок, — и захлебнулась слезами, оглашая палату ревом подстреленного зверька. Медсестра вытащила ребенка из тумбочки и принялась его успокаивать. Маша зарыдала только сильнее, ее плач будто бежал от октавы к октаве, все выше и выше, пока малышка не сорвала голос.
Вечером Машенька осталась сидеть на скамеечке в коридоре, сонно свесив голову на грудь. Когда ее начали тормошить и звать идти спать, девочка наотрез отказалась это делать:
— Не пойду! Я буду здесь. Там она умирает! Мне страшно там!
Уговорить ее не было никакой возможности. Маша боялась синеющей, задыхающейся девочки и тяжелого духа смерти, витавшего в палате… Она тоже слышала сказку про красную руку — и очень боялась, что красная рука прилетит и к ней…
Наконец она согласилась и недоверчиво зашла в палату, со страхом оглядываясь на соседку, лицо которой сливалось в полутьме со смятой подушкой, и только ее широко открытые глаза, смотревшие в потолок, которые вдруг вздрогнули и повернулись на нее, заставили Машу нерешительно подойти к своей кровати.
— Ты больше не будешь умирать? А то мне страшно… — жалобно спросила Маша у измученной девочки.
На другой день Машенька сидела у Вики на кровати и играла в пятнашки, передвигая веселыми щелчками пластмассовые блоки в коробочке так, чтобы цифры были выстроены в порядке возрастания. Она уже знала все цифры, несмотря на то, что ей пять лет… Кто знает, придется ли ей изучать цифры в школе… Маша играла и время от времени проверяла, не кончилась ли жидкость в бутылочке, из которой она по тоненьким трубочкам текла в Викину вену. Когда она замечала, что жидкость на дне бутылочки заканчивалась, то вставала и шла звать медсестру. Об этом ее просила Викина мама, которая уехала на консультацию в другую больницу, взяв медицинскую карточку дочки.
82
— Очнулась? Мой кисенок! — сказала мама и погладила ее по голове, убирая волосы со лба. Мамина ладонь была гладкая, будто яблоко, и пахла земляникой. Или земляничным мылом? На полу рядом с кроватью стояла настольная лампа, мутный свет которой был направлен под панцирную сетку кровати. Сквозь приоткрытую в коридор дверь желтая полоска света, похожая на лежащую на линолеуме ковровую дорожку, утекала в темный коридор. Вика посмотрела в проем двери — и увидела, как эта полоска света пересекается с другой, образуя развилку тропинок. Она подумала о том, что в той палате, откуда тоже теплой змейкой вытекал свет, лежал ее друг Антоша, с которым она познакомилась в столовой, когда Антон туда еще приходил. Его мама давно жила здесь и почти не уходила домой. Не спала, не ела, а только не сводила глаз со своего сына много ночей подряд. У него была какая-то опухоль мозга, которая развивалась очень давно. Сначала была маленькая киста, но она постепенно росла, толстела, начинала давить на соседние участки мозга — и Антоша мучился от головных болей, которые заставали его всегда внезапно. Боли были такие сильные, что единственный глаз Антона заволакивала мутная пленка, похожая на ту, что бывает на стоячей цветущей воде. Антон начинал тяжело дышать, тер виски и бросался на кровать, глотая какие-то круглые розовые таблетки, одна-две штуки которых всегда лежали у него на тумбочке. Другой его глаз был завязан белым бинтом, всегда перепачканным кровью. Ребята из его палаты поделились с Викой, что глаз у него удалили, так как опухоль проросла в глазницу. Вообще Антон был довольно жизнерадостным и веселым мальчиком, любил травить анекдоты, сам первый начинал смеяться. Правда, юмор у него был какой-то «черный». Когда дети звали его поиграть после химии, он, например, мог сказать: «Сейчас проблююсь и тогда приду, а то принцессе придется, прежде чем сделать шаг, поднимать платье, чтобы не запачкаться…»
Антон последнюю неделю совсем не выходил из палаты, и Вика подумала, что надо бы его завтра навестить… Попросила маму привезти ее на каталке к Антону. Когда она его увидела, то не узнала. Незабинтованный глаз застыл на раздвоенной трещинке на потолке, похожей на линию жизни. Застыл там, где эта трещинка обрывалась. Вика осторожно взяла Антона за руку:
— Антоша, привет! Как дела? Мне мама новую игру принесла, будем играть.
Но Антон смотрел сквозь нее, как сквозь стекло — и видел лишь свою трещинку, заканчивающуюся крестом. Вика глядела на него с ужасом. Теребила его руку, показавшуюся ей какой-то мягкой игрушкой, набитой опилками, теребила все настойчивее и упорнее. И о чудо! Антон посмотрел на Вику каким-то осознанным умудренным взглядом старца, все знающего про жизнь, знающего такое, что до поры до времени людям неведомо. Вике даже показалось, что его рука потянулась погладить ее по голове, немного согнув пальцы. Он улыбался какой-то виноватой улыбкой. Вика сжала его руку:
— Смотри, что я тебе принесла, — сказала Вика, протягивая ему игру.
Губы Антона растянулись в какой-то дрожащей улыбке, словно видела она его в отражении воды, волнуемой легким ветерком, здоровый глаз заморгал так, что можно было подумать, что ему в глаз попала соринка. Он что-то говорил будто, но слов не было слышно: точно сильный ветер относил его фразы в далекую даль. Вдруг его глаз перестал моргать и закрылся, но веко по-прежнему подрагивало, точно листок от дождя. Когда глаз снова открылся, он показался Вике стеклянным. Веко больше не дрожало, а зрачок, казавшийся стеклянной черной бусиной, смотрел в потолок, ни на что не реагируя. Вика стала теребить его руку, словно маленький ребенок дергает мамину юбку, требуя исполнить его каприз:
— Антоша, Антон, Антошечка!
Но больше Антон не слышал ее. Больше он ни на кого не реагировал, хотя прожил еще две недели. Вика постоянно прислушивалась к тому, что происходит в соседней палате, вся обмирая от страха. Липкая рубашонка противно прилипала к спине, точно она попала под дождь. Она еще верила в то, что смерть можно обмануть. Вот сейчас Антон очнется — и они сыграют в ее новую игру, которую ей так не терпелось ему показать. Она видела, как медсестры бегают к нему с кисло родными подушками и капельницами, видела, как его отец греет в руках пузырьки с плазмой, дышит на пузырек, пытаясь его согреть своим дыханием, точно оттаивает окно в замерзшем троллейбусе…
И сама она словно попала в этот замерзший троллейбус, в котором укачивает и поднимается тошнота. Ей снова не хватало воздуха… Он такой морозный, что замерз до ледяных призм, которые она никак не могла протолкнуть в свое горло. Обдирала его до боли, до крови, солоноватый вкус которой она чувствовала на своих губах…
Маленькая Вика провалилась то ли в обморок, то ли в тяжелый сон, придавивший ее холодным, колючим, осевшим после оттепели сугробом… Они идут с Антоном по коридору школы и ищут класс, на урок в котором они, заигравшись на перемене, опоздали. Школа новая, она недавно перешла в нее из другой — и плохо знает своих одноклассников. Вику охватывает страх, что ее будет ругать учительница, что она такая недисциплинированная. Учительница у них тоже новая и предмет новый, на улице весна — и ей так не хочется идти в душный класс, где не хватает спертого воздуха, а в виски больно стучатся настырные молоточки и кружится голова. Но надо! Они доходят с Антоном до какой-то двери, Антон робко стучится и приоткрывает дверь, растягивая большие ржавые пружины, на которых она держится. В открытую дверь она видит учителя с лицом реаниматора, только одет тот почему-то в черную рясу священника. Ей становится страшно. У доски она видит лысого мальчика, того самого, чья рубашонка была залита кровью в тот день, когда она бежала из больницы. Мальчик что-то пишет фломастером на белой доске, но буквы исчезают, как будто чернила испаряются или невидимы для нее. Она стоит и смотрит из-за спины Антона на его старания. Мальчик замечает их и приветливо им улыбается, махнув рукой: «Заходите!» Но Антон неожиданно оборачивается к Вике и очень тихо говорит: