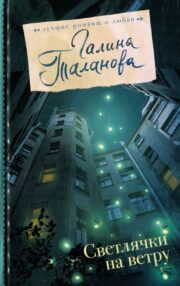94
Если бы кто сказал чуть более года назад, что она будет мечтать жить на химиях и с операциями, похоронив единственного сына… Кто ж себе такую жизнь захочет? Но внезапно все поменялось. Ее выписали с больничного, дав инвалидность, хотя ей оставалось сделать еще два курса химиотерапии. Взяла сначала очередной отпуск, потом еще три месяца административного. Работать практически не могла: была заторможенной и еле передвигалась, как божья коровка с прилипшими к спине крылышками, очнувшаяся между зимних рам в октябре от пущенного отопления, которая медленно ползала, но взлететь не могла, да и не смогла бы: стекло бы не позволило.
После удаления лимфоузлов ее рука стала похожей на розовый воздушный шарик в форме огромной сардельки, перетянутый веревочкой около кисти. Она перестала носить платья с короткими рукавами и с усмешкой констатировала, что ее все еще заботит ее внешность: переживает она из-за своей раздутой руки, кажется, больше, чем из-за того, что ее жизнь подходит к концу, превратившись из полноводной реки в пересыхающий ручеек, виляющий среди кочек и еще тихо журчащий под ногами. Она нашла в интернете несколько вариантов инструкций, как красиво повязать платок на голову, и сшила из шейных платочков несколько головных уборов на выход. Волосы у нее все никак не начинали расти, но ей было как-то все равно, хотя она и обязательно накручивала чалму или нечто подобное, выходя на улицу. Делала это скорее из-за того, чтобы на нее не оглядывались, но почему-то все равно многие оборачивались: рассматривали ее головной убор, который ей удивительно шел, создавал свой шарм и делал ее даже элегантной. Но ей представлялось, что все читают по нему, что она совсем лысая после химиотерапии. Купила два парика, которые ей были на редкость к лицу — казалось, что она только что вышла из салона-парикмахерской: один из искусственных светлых волос со стрижкой «каре», другой из натуральных — тоже оттенка «блонд». Их приходилось постоянно укладывать: мыть, накручивать на бигуди, посадив парик на трехлитровую банку, делать начес и заливать лаком. Без них на улицу она теперь не выходила. Дома она разглядывала в зеркале свой лысый блестящий череп с красноватым отливом, как у набирающего цвет грейпфрута, и думала о том, как в одно мгновение может круто поменяться жизнь.
Наступил еще один тяжелый год, когда неожиданно погибли три ее хорошие подруги. У одной из них оторвался тромб; другая разбилась на машине, непонятно почему выехав на встречную полосу, по которой ехал КамАЗ, стремительно вильнувший от нее в сторону, но все равно смявший ее легковушку, как консервную банку, — и оставила двоих детей престарелой маме, которая недавно перенесла операцию; третья утонула, хотя неплохо плавала и никогда не боялась воды, глубины и волн: наехал скутер, который несся как оглашенный, таща за собой лыжника: в крови обоих потом обнаружили и алкоголь, и наркотики. И тогда Вика стала думать, что она счастливица, что «Бог не дает креста, который ты не можешь нести». Ее подруг нет, а она живет, ее не забрали быстро, но предупредили, дали возможность осознать, смириться, морально подготовиться и попытаться закончить свои дела. Да какие дела! Она давно просто переползала изо дня в день… Еще тогда, в детстве, когда лежала в больнице, она поняла, что наступает день, когда люди находятся на грани двух миров и повлиять на то, что должно произойти, не может никто и ничто: ни знания, ни опыт, ни деньги, ни любовь. Еще тогда она поняла, что, пока живы наши близкие, которые любят нас и которым мы необходимы, как воздух или вода, которые не представляют, как они будут жить без нас, мы должны пытаться выплыть из любого затягивающего вниз водоворота, как бы ни хотелось нам сложить лапки и перестать барахтаться.
Ей вдруг открылся путь к другой, оставленной жизни, казалось, навсегда погребенной, к той давно позабытой сущности, которая медленно, год за годом, погружалась на дно, спрессовалась там, словно песчаник: будто кто-то опустил на самое дно души сверкающий бур — и извлек на поверхность пробы грунта. И она решила, что будет теперь жить, сколько ей отпущено, в полную меру сил и возможностей, не бередя незажившие раны, накладывая марлевые повязки с антибиотиками и кусочками алоэ, вытягивающими гной. Она будет наслаждаться каждым вдохом и выдохом; наслаждаться просто небом: и голубым, безоблачным, как глаза младенца, и плачущим который день подряд нудным осенним дождем, пускающим в землю сонм ледяных стрел; упиваться просто воздухом, пахнущим и талой водой, и опавшими листьями, вобравшими в себя запах тления и ухода, и пропитанным накаленным асфальтом городских улиц да выхлопными газами веселого потока разноцветных машин.
Гляжу в туннель.
Уже у входа.
Там голубой небесный свет.
Осталось сколько до ухода
Туда, где вспять дороги нет?
И как заноза в сердце ноет…
Я чую кожей жесткий дом.
Он пахнет деревом и хвоей.
Я упираюсь в двери лбом.
Там темнота.
И лишь отсюда,
Как свет мерцающей звезды
Свет виден тот,
Что позабуду
Лишь у последней той черты[1].
95
В марте мама начала таять, как сугроб, прямо на глазах. Почти все время лежала неподвижно, откинувшись на подушку растрепанной головой со спутанными, свалявшимися в клочья жидкими волосами и облизывая пересохшие, похожие на растрескавшуюся резину губы, обметанные белой слизью, напоминающей пенку от молока. Забивалась, как зверь в дебри леса, в спасительный сон. Иногда вставала, долго нашаривала босыми отекшими ногами со вздувшимися венозными буграми разметавшиеся тапки в мелкий аленький цветочек по черному полю, с большим розовым помпоном и, шаркая ими, брела в уборную, перебираясь по стеночке.
Будто горячее южное солнце хлынуло на ее измученное лицо — и оно неожиданно разгладилось, как намокшая в брызгах морской волны ткань. Видела на ее лице наступление того молодого страдальческого жара, полыхающего, как шиповник, вдруг расцветший опять по осени, обманутый затянувшимся теплом. С горечью и страхом неизбежного Вика понимала, что такой жар охватывает человека, когда ему нужно уходить.
Врачи говорили, что уже недолго… В больницу брать отказывались, заявляли, что у них не богадельня. Вика не верила, вернее, как страус, пыталась зарыть голову в песок, чтобы не видеть приближающегося конца. Жила так, как будто ничего не изменилось и вся жизнь впереди. Будто сидела в лодке под проливным дождем в надежде, что дождь перестанет, наблюдая, как прибывает вода. Подумала о том, что маму потрясла ее болезнь. Потом случилась смерть маминой самой близкой студенческой подруги, она словно взяла маму за руку и потащила за собой. Подруга эта была одинокой, хотя у нее был сын, но сын где-то беспробудно пил, наделал неподъемных долгов, она его боялась, пенсии не хватало. Еще не старая женщина просто ушла в Волгу. Говорят, медленно шагала поперек реки, тянущей вниз своим сильным течением. Вода прибывала с каждым ее шагом, пока не покрыла с головой.
Теперь Вика видела, как неторопливо поперек реки жизни уходит под воду мама, а она продолжает стоять на берегу в столбняке, понимая, что этот уход отменить нельзя. Вот вода подбирается уже под горло, холодные брызги срываются в разгоряченное болезнью лицо. А Вика продолжает жить, как будто ничего не происходит. Ходит на работу, ругает мужа, внутри дрожь и обморок, но она точно запрограммированный робот. Собственная болезнь куда-то отступила, затаилась, точно кот под диваном, подстерегающий мышь.
Когда она меняла памперсы, мать схватила ее за руку. Лицо было перекошено болью, страхом и ненавистью. С большой силой (откуда только бралась еще?) схватила Вику за руку, выворачивая ее, будто отвинчивая заржавевший кран.
— Мне больно! Вот так!
Вика услышала, как что-то в руке хрустнуло, словно ивовый прутик, что обломили для того, чтобы отгонять им комаров. В глазах потемнело от пронзившей стрелой боли, закачались огненные круги, похожие на отражение костров на волнуемой ветром воде. Она зажмурилась и поплыла по этим огням туда, куда размеренно и неотвратимо уплывала мама. Осела срубленной березой на землю.