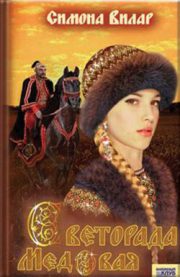Какое-то время они говорили на эту тему, потом изнутри дворца прозвучал долгий тягучий звук трубы – знак, что совет собран и кагана приглашают присутствовать на нем. Муниш медленно поднялся, прижимая к груди любимую собачку.
– Поступай, как считаешь нужным, сын мой. Но учти: я все готов сделать для тебя.
Они понимали, что имеет в виду Муниш, и глаза молодого шада увлажнились от избытка чувств. Однако он сдержал себя, даже попробовал пошутить:
– Может, ты тогда отдашь мне это украшение небес, нашу Мариам?
Он озорно улыбнулся, но отец не оценил шутки.
– Думай, что говоришь, сын! Мариам воспитала тебя, она тебе как мать. А для меня… Она – душа моя.
В том, как он произнес это, было столько чувства, что Овадия виновато кинулся к его ногам, поцеловал полу Длинной одежды. Мариам сидела, не поднимая глаз. Каган медленно повернулся и направился во внутренние покои. Сын и жена кагана склонились перед захлопнувшимися за Мунишем золочеными створками двери. Какое-то время они слышали шаги кагана – только его, а не сопровождавших Муниша охранников. Их ноги в войлочных сапогах мягко ступали по отполированным плитам перехода, а сапоги кагана на каблуках, окованных серебром, цокали, как копыта. Создавалось впечатление, что он уходил в одиночестве. Как и жил…
После его ухода они расположились в покое Мариам на крытой барсом софе перед горящим очагом. От очага шел жар, тяжелая одежда уже была не нужна, и Мариам первая скинула свою пушистую накидку из лебяжьего пуха, приняла у Овадии его темные меха. Когда брала шапку, не удержалась, провела ладонью по его выбритой голове с единственным клоком волос, оставленным на макушке.
– Во дворце многих удивило, что ты стал совсем как степняк.
– До возвышения иудеев это было обычаем, а ишханы должны видеть во мне своего.
Он дернул головой, чтобы она его не касалась, и Мариам подавила тихий вздох. Она самолично наполнила кальян, раскурила и установила его на невысоком инкрустированном перламутром столике.
– Сейчас ты, наверное, спросишь о своей Медовой.
Овадия и впрямь оживился. Да, он хотел услышать мнение мудрой Мариам, узнать, как обживается в Итиле его негаданно обретенная невеста.
– Она привыкает, – затягиваясь дымом через тонкую трубку мундштука, начала Мариам. – Поначалу ей было непросто, но у нее много достоинств, чтобы стать жемчужиной любого гарема и первой в душе своего повелителя. Она, бесспорно, красива; ее золотисто-медовые волосы, глаза цвета патоки, прекрасная фигура – все достойно похвалы и свидетельствует о твоем хорошем вкусе, Овадия. Но… – Мариам с нескрываемой иронией взглянула на царевича. – Я опасаюсь, что очень скоро ты разочаруешься в ней, мой Овадия. Ибо она холодна как лед. В ней, как и в иных северянках, нет страсти, нет того потаенного пламени, который так манит мужчин.
Пораженный ее словами, Овадия не заметил протянутого ему мундштука кальяна. Хмыкнул, кривя полные губы:
– Ты просто ревнуешь!
Мариам будто и не услышала его. Она глубоко затянулась, и в кальяне мелодично забулькало. Выпустив струйку ароматного дыма, Мариам стала говорить, что она уже неоднократно пыталась вызвать Светораду на откровенный разговор об Овадии, всячески расхваливала его, но Медовая, если и слушала ее, никогда не высказывала своего мнения. Она вообще избегает разговоров на тему любви и любовных утех, столь популярных в гареме среди скучающих женщин.
– Я много общалась с княжной, – чуть щуря лиловые глаза, продолжала Мариам, – и убедилась, что она равнодушна к страстям тела. Она краснеет и смущается, едва я завожу речи о телесных усладах. Она ездила с иудейками смотреть бои, но это не возбудило ее. По-моему, она так же холодна, как и уличанка Венцеслава, о которой известно, что, несмотря на ее преданность Юри, она так и осталась бесчувственной на ложе. Поэтому Юри и предпочитает ей более старшую, но пылкую и опытную Захру. И вообще, мне кажется, что эти русские девы по своей природе холодны и равнодушны к ласкам мужчин. Вернее, их тело похоже на холодное блюдо, которое можно есть лишь с голоду, пока не потянет на более пряную и горячую пищу.
– Я люблю ее, – упрямо произнес Овадия. – Ей будет хорошо со мной, а мне с ней.
Мариам чуть приподняла тонкие черные брови.
– Что ж, тогда послушай доброго совета, мой мальчик. Эта Медовая что-то таит в себе, некую тайну, которая гнетет ее. И ты многого добьешься, если расположишь ее к откровенности. Потаенное томит душу, высказанное же дает свободу. А со свободой вновь хочется получать удовольствия. Светорада – добрая девушка с чувствительным сердцем, и не надо большого ума, чтобы понять это. Если ты проявишь терпение, то однажды она потянется к тебе, захочет любви… Душевной любви… А вот захочет ли она тебя плотски? Хм… не знаю, не знаю.
Однако слова Мариам только раззадорили шада. Нет, в его воспоминаниях Светорада оставалась все той же смоленской красавицей с игривым нравом и дразнящими улыбками. Ее пылкая душа словно светилась сквозь нее, обещая пламень и жар. И Овадия будет достаточно терпелив, чтобы отогреть ее застывшую душу и пробудить тело. Мариам как будто читала его мысли. На ее бледных устах играла улыбка.
– Чтобы быть терпеливым с Медовой, чтобы сдержать свою страсть, тебе, Овадия, надо утолить желание с кем-то иным. Тогда тебе будет легче оставаться для княжны только другом… Добрым другом, ибо лишь так можно расположить эту женщину к себе. Последуй моему совету: утоли свою страсть с другой женщиной, чтобы ничто не отвлекало тебя, когда ты будешь приручать эту маленькую славянку, словно терпеливый сокольничий приручает дикого сокола.
Овадия медленно повернулся к мачехе, смотрел на нее какое-то время, а потом плотоядно улыбнулся:
– Это хороший совет, Мариам.
Он рывком лег подле нее, поймал одну из длинных гладких прядей ее волос, вдохнул их аромат.
Мариам чуть прикрыла глаза, ее грудь бурно вздымалась.
– Моя верная Бадига постоит на страже, а Муниш еще долго будет на совете. Поэтому… – Она облизнула пересохшие губы и повернулась к Овадии, который не сводил с нее глаз. – Иди же ко мне… мой малыш…
Той ночью Светорада спала неспокойно, вздрагивала, прислушивалась к звукам. А с утра в ее покое появился евнух Сабур, повелев прислужницам заняться госпожой с особой тщательностью. При этом он проигнорировал пытавшуюся выйти вперед Руслану, которая отчаянно добивалась места главной служанки княжны. Нет, сегодня с госпожой должны заниматься самые умелые мастерицы и самые опытные евнухи-цирюльники. Вот Руслане и пришлось держаться в стороне, подавать то зеркальце, то заколки, пока другие служанки мыли, расчесывали и умащивали Светораду, тщательно обследовали ее тело в поисках лишней растительности и безжалостно истребляли все до единого волоска. С особым усердием они отполировали каждый ноготь на ее руках и ногах, подкрасили ей щеки, губы, даже соски, а глаза обвели сурьмой едва ли не до висков.
Ближе к вечеру в покои княжны явился Сабур и, оглядев ee, предложил следовать за ним.
Ее препроводили к ожидавшей у причала ладье, и Сабур пояснил, что шад распорядился привезти Светораду в его загородную усадьбу. Княжна взошла на крытую коврами корму, опустилась на подушки и, прямая и неподвижная, сидела под увешанным кистями навесом. На ней был неимоверно богатый запашной халат из синего стеганого шелка, расшитый цветным бисером и жемчугом, только у горла оставлявший заметным ворот нижней желтой рубашки, и голубые шаровары, заправленные в позолоченные полусапожки с загнутыми кверху носками. Волосы ее покрывал замысловатый головной убор, тяжелый от золотых украшений и самоцветных камней, а из-под него на гладкий лоб спускалась мерцающая драгоценностями птичка, клювом нацеленная между бровей.
Все это великолепие давило и угнетало княжну, ей хотелось согнуться и прилечь, сломиться… Но она оставалась сидеть с гордо поднятой головой: прямая спина, вскинутый подбородок, сухие, остро блестевшие глаза. Так же прямо и величаво она сошла на берег, огляделась. Перед ней высилась высокая стена большой усадьбы. Широкие ворота распахнуты настежь, подле них с факелами в руках стоят охранники и прислуга, склонившиеся как по команде, едва Сабур вывел вперед княжну, удерживая ее высоко поднятую руку за самые кончики пальцев. Однако Овадии нигде не было видно.
Светораду проводили к дому – обширному, побеленному известью строению, кровли которого были крыты тростником, а ярусы уходили ввысь, оканчиваясь легкой башенкой. – Это личное имение Овадии бен Муниша, – сказал Светораде Сабур, склоняя свою голову, увенчанную огромным тюрбаном, и прижимая руку к груди. Другой рукой он указал ей в сторону раскрытой двери. За ней золотисто мерцал свет огней.