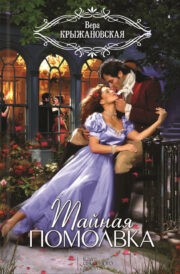Рудольф вышел из экипажа, бросил вожжи груму и по тенистым аллеям пошел к дому. Выйдя на лужайку перед домом, он увидел детей, игравших под надзором гувернера и гувернантки, и те побежали ему навстречу.
– Вы не привезли Жоржа? – огорченно спросил Эгон.
– Нет, мой милый, зато привез тебе от него приглашение на завтра, – сказал Рудольф, ласково глядя на его шелковистую кудрявую головку. – А что, папа дома?
– Да, приди вы раньше, то застали бы его здесь, он играл с нами в крокет, а теперь он в турецкой зале, рядом с мастерской.
– Спасибо, я его найду. До свидания, крошки.
Гуго лежал на шелковом диване с книгой в руках, но не читал. Устремив глаза в пространство, он предался мечтам, и в его памяти мелькал, как искусительное видение, образ Валерии. Такой, какой он видел ее вчера. Эта встреча сильно поколебала его покорность судьбе и мнимое успокоение, которое поддерживало его до сих пор. Оставшись по уходе молодой женщины в лесном павильоне, он опустился на стул, только что оставленный ею, и в груди забушевала буря. Как хороша Валерия, более чем когда-либо он чувствовал себя ее рабом, его сердце и чувства – все принадлежало ей… и она была свободна! Эта мысль преследовала его, как адская насмешка. Успокоясь несколько, он встал, утомленный, и направился в Рюденгорф, унося с собой картину, так раздразнившую княгиню.
«Бедный, глупый Самсон! Когда же перестанешь ты мучиться под ножницами твоей Далилы?» – с горечью подумал он, устанавливая картину в Рюденгорфской мастерской.
Ночь вернула ему хладнокровие и самообладание. На следующее утро он работал и играл с детьми в крокет, но, оставшись один, невольно отдался своим мечтам.
Приезд Рудольфа мгновенно привел его к действительности.
Молодые люди дружески поздоровались.
– Я приехал вас побранить, барон, – сказал Рудольф, садясь и закуривая сигару. – Видно, нам предназначено судьбой вечно объясняться по разным поводам. Скажите, отчего вы отнеслись вчера к моей сестре с такой утонченной злобой?
– Я вас не понимаю, граф, – возразил Гуго, краснея. – Не припоминаю, чтобы я не оказал должного внимания и уважения княгине.
– Гм! Я несколько иначе понимаю внимание и уважение. Не стану оспаривать любезности по моему адресу насчет моей аристократической обособленности и осторожности, которую следует соблюдать в наших отношениях, оставим это. Но вы нарисовали для выставки картину, сюжет которой страшно оскорбил мою сестру. Можете вы показать мне вашу работу?
– Извольте, – сказал барон и повел графа в мастерскую.
Граф довольно долго рассматривал преступную картину.
– Это очень злая шутка, – полушутя-полусерьезно заметил он. – И сверх того, сравнение неоспоримое, но и несправедливое. Валерия не по доброй воле изменила вам, а была вынуждена к тому отцом, предложившим ей отказаться от вас, иначе он пустит себе пулю в лоб. Нечего и думать о выставлении этой картины, а так как она предназначена для благотворительного базара, то продайте ее мне.
Вельден покачал головой.
– Если, рисуя эту картину, вы желали отомстить Валерии, то цель достигнута. Мысль, что она в ваших глазах коварная Далила, стоила ей потоков слез. Удовлетворитесь этим, Вельден, и покончим дружелюбно.
Лихорадочная краска залила лицо Гуго.
– Не дай Бог, чтобы княгиня проливала слезы по моей вине. Успокойте ее, скажите, что ничей нескромный взор никогда не увидит этого холста, эту злую шутку, о которой я очень сожалею, и прошу мне ее извинить, как и вас, граф, прошу простить мне мои несправедливые слова.
Он протянул графу руку, и тот удержал ее, пытливо смотря на него.
– Зачем вы так мстительны, вместо того, чтобы попытаться исправить прошлое? – дружеским тоном спросил он. – Эта картина выдала вас и указала, что вы ничего не забыли. Так что же? Вы молоды, судьба сулит вам удачу, а я уже не тот ослепленный предрассудками сумасброд. На этот раз я не буду ставить препятствий вашему счастью и счастью Валерии.
Гуго вздрогнул и попятился, а его взволнованное лицо то краснело, то бледнело.
– Нет, это невозможно! Благодарю вас, граф, благодарю от всей души за великодушные слова, вы не могли лучше загладить прежних обид, не могли дать лучшего доказательства вашей дружбы, – он обеими руками пожал руку Рудольфа, – но прошлое непоправимо, и что-то непреодолимое встало между нами: могила ли князя или мое злодеяние? Но я думаю, что княгиня, со своей стороны, не нашла бы счастья со мной. А потом, я жестоко страдал, чтобы вновь предпринять такой полет Икара. Между княгиней Орохай и мною пропасть очень велика.
– Страшный человек, – прошептал граф, в свою очередь пожимая руку. – Итак, до свидания, Вельден, и да будет на все воля Божья.
XI
Прошло около двух месяцев. Валерия настояла на своем и поехала в Штирию, хотя переданные ей Рудольфом извинения значительно смирили ее гнев. Вернулась она уже прямо в Пешт, куда прибыла из имения и семья графа Маркош. Несмотря на чудесную осень, переезда требовали дела графа и графини.
В день второй годовщины смерти мужа Валерия возвратилась с кладбища, заперлась в своем будуаре. Ей предстояло исполнить последнюю волю покойного и вскрыть оставленное им письмо.
Подавленная воспоминаниями, с тяжелым сердцем приступила она к этому. Было жарко, как в июле. Распахнув окно, Валерия села у письменного стола и вынула шкатулку, взяла запечатанное письмо, которое столько раз рассматривала. Что-то узнает она? Дрожащей рукой сломала печать, вскрыла конверт и вынула заветное письмо. Но при виде строк, написанных рукой того, кого уже не было в этом мире, слезы хлынули градом. Долго она плакала, глядя на висевший над столом портрет Рауля, который улыбался ей, словно живой, затем, когда острый приступ горя, потревоженного воспоминаниями, прошел, она поцеловала письмо, развернула его и, волнуясь, стала читать.
«Горячо любимая Валерия! Читая эти строки, ты услышишь загробный голос друга, который будет неизменно любить тебя, как любит и теперь, когда я пишу, хотя и не той материальной любовью, которую омрачают ревность и эгоизм. С приближением великой минуты, когда душа готовится возвратиться в свое вечное отечество, человек смотрит совсем иначе на жизнь, и моя любовь к тебе, кроткая и верная моя подруга, сосредоточивается на единственной мысли обеспечить твое счастье, когда меня уже не будет, чтобы беречь тебя и ребенка.
Надеюсь, дорогая, что когда ты будешь читать это письмо, скорбь об утрате меня уменьшится, а время – этот великий утешитель – уврачует раны твоего сердца. Эта надежда заставила меня назначить двухгодичный срок, чтобы сказать тебе то, что во время первого приступа твоей печали показалось бы тебе возмутительным и что ты оттолкнула бы как оскорбление моей памяти. По прошествии этого срока спокойствие вернется к тебе, жизнь начнет вступать в свои права, и ты лучше поймешь мою мысль и глубокую любовь, которая мне ее внушила. Я оставляю тебя, моя милая Валерия, в полном расцвете молодости и красоты, а на твою долгую, по всей вероятности, жизнь не завещаю тебе иной цели и утешения, кроме нашего маленького Рауля, это непорочное сокровище, подверженного всевозможным случайностям. Что останется тебе, если бы ты лишилась твоего единственного ребенка? Сердце мое сжимается при мысли о пустом тоскливом существовании, которое ожидало бы тебя, привыкшую к любви и неусыпным о тебе заботам боготворящего тебя человека. Я не хочу, чтобы ты обрекла себя на одиночество из-за преувеличенного чувства нежной верности к моей памяти, и нисколько не принуждаю тебя сделать новый выбор, считая своим долгом сказать, что есть человек, перед которым ты должна загладить свою вину и которого я считаю достойным и способным дать тебе счастье. Ты поняла, что я говорю о Гуго Мейере. Мое внутреннее убеждение – он все еще любит тебя. Подобное чувство заслуживает уважения. Потому что хотя оно и побудило его совершить преступление, но, вместе с тем, облагородило его и придало ему силу одержать величайшую победу, на которую только способно человеческое сердце. Судьба послала ему суровое испытание и унижение, расовый предрассудок отнял у него счастье, преступление его отдало его во власть соперника, его жена ему изменила, и, словно в насмешку, судьба не оставила ему ничего, кроме детей человека, которого все заставляло его ненавидеть. Этим двум существам, один вид которых должен вызвать тяжелое прошлое, он должен отдать все: отеческую любовь, имя и состояние, и эту тяжелую обязанность он несет с достоинством, заслуживающим полного уважения. В довершение всего он принес труднейшую жертву, которую только может возложить мятежное, оскорбленное сердце на алтарь раскаяния: ценой своей жизни он хотел спасти мою и сохранить нам обоим наше счастье. Если подвиг его самопожертвования не дал желанного результата, это уже от него не зависело, но это последнее событие убедило меня в том, что странное сплетение его судьбы с моей, как и борьба, которую мы вели из-за тебя, моя дорогая, представляли духовный поединок. Когда же я увидел, что после смертельной опасности, которой мы оба подверглись, он, более рисковавший, остался целым, между тем как я умираю, то мне стало ясно, что судьба решила не в мою пользу, справедливость требует, чтобы уходящий со сцены уступил свое место без злопамятства и мелочной ревности оставшемуся в живых.