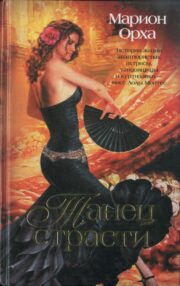— Зовите меня Луисом, — тут же предложил он.
— Что вы, это никак не возможно, — возразила я.
Он сжал мои руки.
— Me extrano? Вы без меня скучали?
Мне было и приятно, и одновременно смешно.
— Mas que puedo decir. Даже и сказать не могу, как скучала.
Возможно, Людвиг оттого так низко склонялся перед идеалом красоты, что его собственная внешность совершенно не соответствовала тому, как он сам себя воспринимал. На карикатурах его изображали с огромной слуховой трубкой в ухе и с длинной мордой хорька, однако сам Людвиг почитал себя за страстного человека с душой поэта. Газетные карикатуры его глубоко обижали, и король все пытался их запретить. А искусство давало возможность достичь совершенства — в чем ему было отказано с точки зрения физической. Например, если картина не отвечала его строгим понятиям о красоте, Людвиг мог просто-напросто заказать другую.
Когда работа над моим портретом приблизилась к завершению, художник выставил полотно на мольберте в «Галерее красавиц», чтобы Его Величество смог оценить работу. Людвиг долго с восхищением созерцал портрет, затем повернулся ко мне:
— Не покидайте меня. Queda en Munchen. Queda con те[46].
Художник смущенно кашлянул, почтительно извинился и поспешил уйти.
Я пыталась сосредоточиться на незаконченном портрете, однако взгляд притягивали десятки полотен на стенах галереи. На них были изображены самые разные женщины — и зрелые, и совсем молоденькие, и умудренные опытом, роскошные светские львицы. Смуглые и белокожие, пышнотелые и хрупкие, одухотворенные и совершенно земные, добродушные и несомненно злые. Я с трудом отвела взгляд от королевского «гарема» и внимательно рассмотрела собственный портрет. Очень недурно. И позировала-то всего несколько раз — а вон какой шедевр, яркий контраст черного и красного. Правда, подбородок несколько заострен, зато в глазах чудесное мечтательное выражение.
— Bien?[47] — спросил Людвиг.
— Не знаю.
А впрочем, почему бы не остаться? С того самого дня, как уехала из Парижа, я бесконечно переезжала из города в город, из театра в театр, но без всякой цели, без желания чего-то достичь своим танцем — лишь ради того, чтобы двигаться и зарабатывать на жизнь. Возможно, пора что-то поменять? Но что именно Людвиг от меня хочет? Снова бросив взгляд на коллекцию портретов, я вспомнила развешанные по стенам охотничьи трофеи в офицерской столовой в Карнапе — головы тигра, слона и оленя. Возможно, эти несчастные звери и сейчас еще глядят со стен стеклянными глазами. Если мне приходилось встречаться в том зале с Томасом, я всякий раз старалась на них не смотреть.
Портреты в галерее чрезвычайно походили на выставку трофеев — независимо от того, покорил их баварский монарх или нет. Хотелось бы знать, как далеко простираются королевские права. И сколько из этих женщин попросту подчинились и исполняли каждое желание Людвига, прежде чем он их отпустил или отбросил, как надоевшую вещицу?
Я отрицательно покачала головой и повторила:
— Не знаю.
Помогая себе выразительными жестами, я обрисовала свои планы дальнейшего путешествия до самой Вены; по пути я предполагала выступать в крупных городах.
— Как по-вашему, где лучше это делать? В Зальцбурге или, может быть, в Линце?
— Queda, — прошептал Людвиг.
Внезапно я заметила, что мой портрет — не статичен, в нем явно присутствует ощущение движения: словно я готова сорваться с места и бежать прочь.
Когда я позировала в последний раз, Людвиг ворвался в студию и бросил мне на колени три богато переплетенных тома — издание собственных стихов.
— Yo te quiero[48],— объявил он.
Сидя на диванчике красного бархата, я листала нарядные томики, взвешивая свои возможности. Людвиг твердо верит в силу платонической любви. Он женат, имеет восемь детей, и лет ему почти шестьдесят. Мне же едва исполнилось двадцать шесть, причем я разыгрываю из себя наивную простушку двадцати одного года от роду. Людвиг заказал первые портреты в свою «Галерею красавиц», когда я еще даже на свет не родилась.
— Мне нужно думать о своей репутации, — наконец проговорила я.
— Я вас люблю отеческой любовью, — возразил монарх. — Позвольте мне о вас заботиться.
«Отчего же не остаться?» — шепнул вкрадчивый голосок здравого смысла. И в самом деле: я смогу пожить спокойно, отдохнуть. Свить собственное уютное гнездышко. Наконец, можно некоторое время не выступать на сцене. Забыть обо всех треволнениях и передрягах; хоть ненадолго.
— Да, мне будет нелегко вас покинуть, — изрекла я.
Людвиг воспрянул духом.
— Я никогда не испытывал ничего подобного! Любовь, что вспыхнула в моей душе, чиста и свята. Я чувствую себя заново рожденным.
В «Галерее красавиц» для моего портрета уже освободили место, готовясь повесить его на самом видном месте. Людвиг твердил: «Вы совершенно не такая, как прочие женщины, вы — особенная!» Однако сорок портретов молчаливо напоминали: я — всего лишь одна из королевских муз, до меня было сорок таких же «особенных».
— Я не отпущу вас, — проговорил он шепотом.
Сложив три томика стихов аккуратной стопкой, я обратила все свое внимание на Его Величество.
— Не стану отрицать, что за прошедшие несколько недель я бесконечно к вам привязалась.
У него дрогнул голос:
— Без вас мое сердце мертво.
Я поглядела ему в глаза, после чего нежно провела рукой по щеке. Проворковала:
— Я бы с готовностью отдала ради вас все на свете, carino[49]; но как я буду жить?
Людвиг обещал дом, титул, карету с лошадьми и ежегодное содержание. Стоило мне упомянуть свою карьеру танцовщицы, как он удваивал обещанную сумму. Когда дошло до десяти тысяч флоринов, мне пришлось сунуть руки под себя и прикусить губу, чтобы не выдать чувств. Десять тысяч флоринов в год! Мало кто из знати мог похвастать таким богатством. Коли монарх сдержит свое обещание, мне больше никогда в жизни не придется заботиться о деньгах.
Художник у мольберта накладывал последние мазки — стремительными, сердитыми движениями.
— Так вы останетесь? — спросил Людвиг.
— Мы заключили договор, мой Луисито, — ответила я и поцеловала его в обе щеки.
Спустя три месяца я сидела в собственной театральной ложе, на ярусе, отведенном для знати. Что-то изменилось в моем сознании — равно как и в моем гардеробе. Взглянув на себя богоданными монаршими глазами и сумев разглядеть то, что желал видеть Людвиг, я от души принялась играть свою новую возвышенную роль. Много времени отнимал особнячок в центре Мюнхена: я каждый день вчитывалась в каталоги, всматривалась в представленные архитектором чертежи. Однако сейчас я с ностальгической тоской глядела на сцену. Давали «Сильфиду»; аккуратно сложив на коленях перчатки, я подавила желание скинуть туфли. Хотя бы внешне я теперь принадлежала к сливкам баварского общества.
В антракте в ложу пришел Людвиг. Я не встала с места и не сделала реверанс, и по залу прокатился возмущенный шепоток:
— Что она о себе думает? Неужто вообразила себя равной королю?
Людвиг кашлянул и шевельнул рукой, напоминая, что мне следует подняться. Я едва расслышала слова, с которыми он ко мне обратился:
— Какие краны заказать для ванной? Золотые из Парижа или мозаичные из Вены?
Когда подаренный монархом особняк на Барерштрассе был полностью отделан, я вставила тяжелый ключ в замочную скважину и с замиранием сердца отперла замок. Мгновение помедлила, предвкушая все то, что увижу, и наконец отворила дверь. Последние тревоги я постаралась отогнать. Ведь у меня никогда не было ничего своего, кроме багажа, который я возила с собой; а тут — целый дом!
Фасад особняка был выполнен в неоклассическом стиле; солнечный свет щедро лился в комнаты сквозь высокие окна. Едва шагнув через порог, я преисполнилась детского восторга. «Мой дом, мой дом, мой дом», — шептала я, осматриваясь. Стены в гостиной были украшены фресками в древнеримском стиле; во внутреннем дворике красовался фонтан с четырьмя фигурами дельфинов; на второй этаж, к будуару, вела лестница, сделанная из хрусталя. Если дом — отражение его владельца, этим особняком должна владеть прекрасная принцесса из чудесной сказки. Переходя из комнаты в комнату, я упивалась каждой подробностью, каждой деталью внутреннего убранства. Я поглаживала дверные ручки, проводила пальцем по белому мрамору каминов. Здесь все было тщательнейшим образом продумано и мастерски выполнено. В ванной комнате окна были застеклены розовым стеклом, а сама ванна, высеченная из цельного куска мрамора, была доставлена из Рима и в древности принадлежала, очевидно, какой-нибудь знатной римской патрицианке. Венецианские зеркала, позолоченная мебель. Единственным, что слегка заслоняло свет и нарушало общий чувственный облик дома, были тяжелые чугунные ставни. Такие ставни куда уместнее смотрелись бы в военной крепости, а не на окнах дворца.