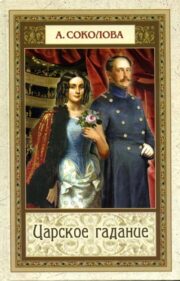Государь низко поклонился гробу, коснулся губами уже застывшей руки покойницы и отошел, взяв с собою один из цветков, лежавших в утопавшем в венках миниатюрном гробе.
Маленькая артистка, как нарядная куколка, лежала в своей залитой солнцем игрушечной дачке. Все улыбалось вокруг этого нарядного маленького гроба. Блики солнца, прорываясь сквозь тюль занавесок, скользили по бледному личику и тонким, полупрозрачным ручкам. Аромат цветов наполнял это светлое теплое гнездышко, и только мертвое, неподвижное, как бы застывшее, горе матери стояло на страже у родного гроба. Только ему одному не было места в этой обстановке, среди этого моря света и цветов. Одно только это неутолимое горе мучительным стоном туманило эту светлую, пеструю картинку, тщательно вставленную в богатую, заботливо устроенную рамку.
Государь еще один только раз накануне погребения приехал к гробу своей маленькой фаворитки. Он совершенно неожиданно появился у гроба поздним вечером, почти белой летней ночью, в цветущем садике, окружавшем нарядную дачку. Он приехал один и вошел в маленький зал, где, смешанный с запахом кадильного дыма и ароматом цветов, стоял уже тот страшный запах разложения, который в то далекое время нельзя еще было устранить ничем, кроме бальзамирования.
Государь вздрогнул от этого едкого запаха и, низко поклонившись гробу, поспешил выйти из комнаты и быстрым шагом дошел до ожидавшего его экипажа.
Теперь, как и в первый раз, мать умершей не заметила, не встретила и не проводила его. Она ничего не видала и не сознавала, кроме своего страшного горя, ничего не видела вокруг себя, кроме гроба дочери.
Даже слабый крик ребенка, за которым установлен был самый тщательный уход, бессилен был оторвать старушку от дорогого гроба. Ребенок — это было что-то новое, что-то, чего при ней не было, а старушке было близко и дорого только то, что было при ней.
Агафья Тихоновна не встречала и не приветствовала гостей, не видела и не замечала директора театра Гедеонова, приезжавшего каждый день на утренние панихиды, и только молчаливым наклоном головы ответила на предложение перевезти тело молодой артистки в Петербург для погребения его на Волковом кладбище, как этого пожелал сам государь.
Император вспомнил, что однажды в пылу веселой и оживленной болтовни жизнерадостная молодая девушка сообщила ему, что на Волковом кладбище погребены артисты, память которых она глубоко чтит, и шутя взяла с него слово, что в случае ее смерти здесь, в Петербурге, подле него, он прикажет и ее похоронить на Волковом кладбище. Тогда царское слово дано было в шутку, теперь его приходилось исполнить серьезно.
Нечаев на панихидах не присутствовал, так как его тяготила толпа. Он заходил один, в те часы, когда у гроба никого не было, и, ни с кем не здороваясь, ни на кого даже не глядя и, по-видимому, никого не замечая, проходил к гробу, у которого простаивал по несколько часов безмолвный, бледный, как бы весь ушедший в себя. Он молча и пристально глядел в бледное лицо покойницы, зорко всматривался в те перемены, какие вносили в него проходившие часы и думал свою мучительную, неотвязную думу.
Никто не мог бы проникнуть в эту думу, никто не мог прочитать ее на осунувшемся, потемневшем молодом лице. Нечаев глубоко схоронил ее в своем разбитом сердце рядом со своею попранной любовью и стоял у гроба холодный, спокойный, словно окаменевший.
Со старушкой Асенковой он не говорил и на ее привет почти никогда не отвечал. Он не замечал ее, как не замечал ничего вокруг себя. Он даже молиться не мог, и старушка зорко наблюдавшая за ним и, в свою очередь, из чужих замечавшая только его одного, ни разу не видела, чтобы, подходя к гробу или отходя от него, он набожно перекрестился. Нечаев двигался, как мертвец, и издали можно было принять его за тень, с того света приходившую на встречу с родной душой.
Однажды только, за день до погребения, старушка Асенкова решилась подойти к молодому человеку и негромко окликнуть его.
— Гриша, а Гриша! — тихо произнесла она, останавливаясь тут же, у дорогого обоим гроба.
Нечаев молча обернулся и вопросительно взглянул на нее. Он словно не мог понять, чего могут хотеть от него люди, о чем они могут спрашивать его или разговаривать с ним.
— Варечка-то наша! — проговорила старушка и залилась слезами, не будучи в силах продолжать.
Григорий Ильич смерил ее удивленным взглядом.
— О чем это вы? — спокойно спросил он.
— Как о чем, Гриша? Да ведь Варечки-то нашей уже нет!
— Моей давно нет! — своим ровным, словно мертвым голосом ответил он. — А свою вы сами заживо в могилу убрали и снарядили. Вам плакать не о чем! — И, отвернувшись, он опять своим неустанным, неотвязным, измученным взглядом стал смотреть в бледное лицо покойницы.
На следующий день состоялись похороны молодой красавица Асенковой. На ее последнее новоселье Вареньку провожала масса народа. Ее гроб все время несли на руках, и могила ее, после того как над нею был наметан свежий холм, вся утопала в цветах.
В день погребения Асенковой государь, сославшись на легкую простуду, почти не выходил из кабинета и, отменив почти все доклады, приказал только, чтобы Гедеонов, распоряжавшийся похоронами, в тот же вечер явился во дворец с подробным докладом.
Ловкий царедворец исполнил это и, отвечая на вопросы государя, расспрашивавшего обо всех мелочах, касавшихся печального события, доложил императору, что старушка Асенкова удалилась в маленькую, только что нанятую ею комнатку, к своей старой подруге по богадельне, тоже вышедшей оттуда.
— Оставить за нею как квартиру ее дочери, так и все, принадлежавшее ей! — приказал государь, не поднимая глаз. — Если она пожелает переменить квартиру, то соображаться во всем с ее личными желаниями и указаниями. Если же она тут пожелает остаться, то заключить контракт от ее имени и платить из сумм моего кабинета. Близких, кроме матери, у покойной никого не осталось? — спросил император после краткого молчания.
Гедеонов на минуту как будто запнулся.
— Чего ты? Говори! — сказал Николай Павлович, хмуро сдвигая брови.
— Ребенок, ваше величество!
Император поднял на него грозный взгляд.
— Неужели ты думаешь, что мне об этом напоминать нужно? — сказал он. — Я спрашиваю тебя о лицах, бывших ей близкими при ее жизни.
— Родных у нее не было, ваше величество!
— А этот молодой актер, за которого она замуж собиралась, ее бывший жених?
Гедеонов молча опустил глаза.
— Что же ты мне не отвечаешь? Где этот актер?! — повторил свой вопрос государь.
— Его нет, ваше величество, — ответил директор упавшим голосом.
— Как нет? — изумился государь. — Что это значит? Куда же он девался?
— Он умер!
Государь поднялся с кресла, на котором сидел.
— Как? Что такое? Как умер?! Когда и где?
— Два часа тому назад, ваше величество, на Волковом кладбище, на ее могиле.
Государь набожно перекрестился и тихо проговорил:
— Да, стало быть, любил! Застрелился?
— Никак нет, ваше величество. У него не было револьвера, он был очень беден!..
— Так какою же смертью он кончил?
— Он удавился! Его уже мертвого вынули из петли на самом кладбище, неподалеку от ее могилы!
Государь вторично перекрестился.
— Где же он теперь?
— В сарае съезжего дома ваше величество. Ночью тело будет погребено, согласно закону, на перекрестке.
— Отпеть и похоронить как следует. От моего имени обратиться для этого к владыке митрополиту!.. Бедняге при жизни было трудно; за него молиться не грешно. Народу на погребении было много?
— Неимоверно много, ваше величество! А цветов прислали много?
— Вся церковь была полна ими. Гроб, как блестящий цветник, возвышался среди церкви.
— Твои артисты все были?
— Все, в полном составе всех трупп. От товарищей артистов тоже было несколько венков.
— Спасибо всем! — коротко произнес император, отпуская Гедеонова.
Но директор не успел еще уехать, как был вновь призван в кабинет государя спешно догнавшим его камердинером.
Когда он вернулся, император сказал ему:
— Я забыл спросить тебя. У этого несчастного, что не мог пережить свое большое горе никого родных не осталось?