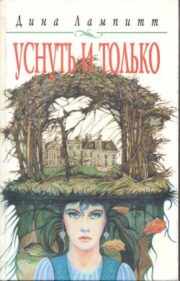Джеймс положил свою костлявую руку на ладонь Пьера.
– Ты знаешь, что это правда, – подтвердил он. – Я с радостью пожертвовал бы ради тебя своей жизнью.
Пьер смотрел в другую сторону, на ястреба, подлетевшего к ним с добычей в когтях и усевшегося на его запястье.
– Думаю, я скоро уеду отсюда, – вдруг бросил Пьер.
– В будущем году, когда тебе исполнится восемнадцать?
– Нет, я не могу ждать так долго. Мне надоело рассчитывать на подачки отца, я хочу иметь собственные деньги. Ты поедешь со мной, Джеймс? Ведь скоро мы с тобой породнимся.
– Как прекрасно это звучит – быть твоим родственником. Конечно, я поеду с тобой. Пусть Ориэль, а не я, остается с моей матерью и исполняет свой долг. Но ведь она еще не согласилась выйти за меня.
Пьер резко обернулся.
– Что значит – еще не согласилась? Кто ее будет спрашивать? Зато отец все больше склоняется к тому, чтобы принять предложение твоей матери. Иногда ты бываешь чертовски глуп, Джеймс.
Казалось, что Джеймс не выдержит и возмутится, но он лишь вяло пробормотал.
– Но не всегда же.
Ястреб вновь устремился ввысь, к солнцу.
– Хватит об этом, – властно распорядился Пьер. – Давай и мы поохотимся, как эта тварь. Кто знает, что мы сможем найти…
Глава третья
В самый темный полуночный час Джон де Стратфорд, направляясь к своему замку, галопом скакал по спящей Бивелхэмской долине. Шумное вторжение переполошило всех ночных тварей, но архиепископ не обращал внимания ни на расползающихся змей, ни на вспугнутых землероек, стремящихся избежать копыт его лошади. Лицо всадника, по обыкновению ничего не выражающее, было обращено вперед, в сторону Мэгфелда, и только его развевающийся на ветру плащ указывал направление, откуда он прибыл, – Кентербери.
Архиепископ был сложным и противоречивым человеком, под маской внешней невозмутимости этой выдающейся личности таилось множество разнообразных черт, подобно тому, как луковица цветка, спящая под слоем темной почвы, несет в себе все многообразие оттенков будущего цветения. И хотя многие люди считали, будто хорошо знают архиепископа и могут судить о его мыслях и чувствах, все они ошибались. Никто не понимал Джона де Стратфорда.
Он был загадкой. В нем таились глубины, в которые он и сам не осмеливался заглядывать.
Превыше всего для него стояли его собственные, личные отношения с Богом. В отличие от большинства людей того времени Стратфорд не был одержим суевериями и страхом. Наоборот, он пытался как бы посмотреть Богу прямо в глаза, конечно, не как равный равному, но и не как униженный, дрожащий проситель. Примас[1] английской церкви думал о себе как об одном из избранных. Он с юности верил, что предназначен для величия и славы, что избран среди всех, чтобы подняться над ними, и что избравшие его могущественные силы позаботятся о том, чтобы ни кто и ничто не остановило его неуклонного продвижения вверх.
Однако, как ни странно, эта вера не породила в нем чувства превосходства над людьми. Он лишь считал чем-то естественным, полагавшимся ему по праву, чтобы все двери раскрывались перед ним, в этом отношении он был похож на боевую лошадь, которую невозможно свернуть с пути.
Но под этой неуязвимостью и целеустремленностью лежала темная сторона. Не только в голове у архиепископа могли рождаться черные мысли, но он умел претворять их в черные дела. По природе своей Джон де Стратфорд был заговорщиком и убийцей, человеком, который может бесконечно и терпеливо ждать своего часа, а затем, спустя годы, наслаждаться мщением.
Но параллельно с этим в его душе находилось место состраданию, любви к прекрасному и доброте. Это была странная, беспокойная, мятущаяся натура, совсем не похожая на тот облик, который ее обладатель демонстрировал миру. Иногда Стратфорд всерьез думал о том, что в нем возродился Томас Бекет, что каждая его мысль, любая испытываемая им эмоция уже была пережита когда-то архиепископом-мучеником.
Вот и теперь, подъезжая к своему дворцу, он чувствовал учащенное биение сердца: сегодня ночью он преклонит колени и будет молиться в той же самой маленькой часовне, где когда-то склонялся святой Томас. Конечно, и в Кентербери он ходил по тем же коридорам и аллеям, что и Бекет, но здесь, в Мэгфелде, была некая интимность, которая позволяла ему ощущать гораздо большую степень близости и родства с душой великого убитого предшественника.
Выехав из леса, Стратфорд покинул владения Джона Вале и пересек границу своего поместья. Ему оставалось проехать не более трех миль, и подобие удовлетворенной улыбки появилось на его обычно бесстрастном лице. Он одиноко скакал в ночи: ни свиты, ни реющего впереди креста. Фактически архи епископ потихоньку улизнул из своей Кентсрбсрийской резиденции и в темноте паломничьими тропами перебрался из Кента в Суссекс. До сих пор затянутое облаками небо оставалось беззвездным, ночь была полна звуков и шорохов, но когда перед архиепископом уже выросла темная громада Мэгфелдского замка, на бархатном черном балдахине вверху вдруг засияла одиноким бриллиантом единственная звезда.
Принявший лошадь архиепископа привратник выглядел озадаченным.
– Милорд! Вас не ждали. Вес спят. Я разбужу поваров, чтобы вам приготовили ужин.
– Нет-нет, не стоит. Немного вина и фруктов – вот все, что мне требуется. Веврэ тоже лег?
– Давно, милорд. Прикажете разбудить?
Стратфорд, уже начавший подниматься по широкой лестнице, покачал головой:
– Не нужно никого из-за меня беспокоить. Я тоже скоро лягу, если вы быстро принесете мне в кабинет то, что я просил.
Поклонившись, привратник направился в кладовую. Убедившись, что он ушел, архиепископ, вместо того, чтобы пройти в свои покои, поднялся по каменной винтовой лестнице этажом выше, и, миновав огромный красивый солярий,[2] расположенный как раз над его спальней и занимавший почти всю южную часть верхнего этажа, очутился в коридоре, куда выходили двери нескольких небольших комнат.
Остановившись возле одной из них, он несколько секунд прислушивался, а затем, осторожно отворив дверь, вошел внутрь.
Через узкое высокое окно лился неровный свет луны, то и дело заслоняемой бегущими по небу облаками, и падал на стоявшую напротив окна простую кровать и лицо спящего на ней человека. Стратфорд сделал шаг вперед и склонился над спящим, внимательно всматриваясь в черты видневшегося из-под темной шапки густых волос лица.
Лицо это, казалось, было создано богами в минуту веселья. До смешного курносый нос, губы, которые даже во сне оставались растянутыми в улыбке, густые загнутые ресницы, черной щеточкой лежавшие на круглых белых щеках. И руки, одна из которых лежала поверх одеяла, – нелепые руки с широкими ладонями и короткими обрубленными пальцами, годившиеся на первый взгляд лишь для того, чтобы ковыряться в земле. Однако, несмотря на внешние недостатки, от спящего исходила атмосфера одухотворенности, явственно свидетельствующая, что это не простой крестьянин спит так мирно и безмятежно в присутствии примаса всей Англии.
Луна окончательно скрылась, и в темноте спящий, наконец, почувствовав присутствие архиепископа, вдруг заворочался и захныкал.
– Не бойся, Колин, – тихо успокоил его Страт форд. – Это я, Джон.
– Джон? Почему ты здесь? Веврэ сказал, что ты в Кентербери и я должен вести себя тихо.
– Веврэ? Он что, неласков с тобой, или плохо обращается?
– Нет, он любит меня. Он часто со мной играет, и танцует, когда я играю на гитаре.
Луна выглянула на минутку, спряталась, но тут же засияла вовсю. Освещенный ее серебряным светом, Колин сел в постели. Архиепископ взглянул на его трагикомическое лицо и улыбнулся. До сих пор он ни разу не задумывался о том, любит или ненавидит он своего слабоумного брата.
– Я привез для тебя кое-какие лакомства. Нет-нет, не вставай. Утром ты сможешь получить их.
Обрадованный Колин со смехом встал в кровати на колени и неожиданно поцеловал руку старшего брата.
– Ты так добр ко мне! – воскликнул он.
Стратфорд отвернулся к окну, на мгновение его лицо исказилось под влиянием нахлынувших чувств. Не было дня, чтобы он не мечтал о том, чтобы Колин заболел какой-нибудь неизлечимой болезнью и тем самым разрешил загадку своей жизни. Но в, то же время, каждый день его брат совершал что-нибудь трогательное, доброе и невинное, и даже мысль о его возможной смерти заставляла архиепископа терзаться чувством вины.