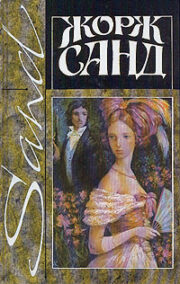— Увы, я слишком сражена горем, — ответила Валентина, — и у меня не хватает сил отвергнуть ваши мечты. О, говори, говори еще о нашем счастье! Скажи, что оно теперь не ускользнет от нас; я так хотела бы в это верить.
— Но почему же ты отказываешься в это верить?
— Не знаю, — призналась Валентина, кладя руку себе на грудь, — вот здесь я ощущаю какую-то тяжесть, она душит меня. Совесть — да, это она, совесть! Я не заслужила счастья, я не могу, я не должна быть счастливой. Я преступница, я нарушила свою клятву, я забыла бога, бог должен покарать меня, а не вознаграждать.
— Гони прочь эти черные мысли. Бедная моя Валентина, неужели ты допустишь, чтобы горе подтачивало и изнуряло тебя? Почему ты преступница, в чем? Разве не сопротивлялась ты достаточно долго? Разве вина не лежит на мне? Разве не искупила ты страданием свой проступок?
— О да, слезы должны были уже давно его смыть! Но, увы, каждый новый день лишь все глубже вторгает меня в бездну, и как знать, не погрязну ли я там до конца своих дней… Чем могу я похвалиться? Чем искуплю я прошлое? А ты сам, сможешь ли ты любить меня всю жизнь? Будешь ли слепо доверять той, которая однажды уже нарушила свой обет?
— Но, Валентина, вспомни о том, что может служить тебе извинением. Подумай, в каком ложном и злосчастном положении ты очутилась. Вспомни своего мужа, который умышленно толкал тебя к гибели, вспомни свою мать, которая в минуту опасности отказалась открыть тебе свои объятия, вспомни старуху бабушку, которая на смертном одре не нашла иных слов, кроме вот этого религиозного напутствия: «Дочь моя, смотри никогда не бери себе в любовники человека неравного с тобой положения».
— Ах, все это правда, — призналась Валентина, мысленно обозрев свое печальное прошлое, — все они с неслыханным легкомыслием относились к моему долгу. Лишь я одна, хотя все они меня обвиняли, понимала всю важность своих обязанностей и надеялась сделать наш брак взаимным и священным обязательством. Но они высмеивали мою простоту, один говорил о деньгах, другая — о чести, третья — о приличиях. Тщеславие или удовольствия — в этом вся мораль их поступков, весь смысл их заповедей; они толкали меня к падению, призывали лишь блюсти показные добродетели. Если бы, бедный мой Бенедикт, ты был не сыном крестьянина, а герцогом или пэром, они подняли бы меня на щит.
— Можешь не сомневаться и не принимай поэтому угрозы, подсказанные их глупостью и злобой, за укоры собственной совести.
Когда кукушка на часах фермы прокуковала одиннадцать раз, Бенедикт стал прощаться с Валентиной. Ему удалось ее успокоить, опьянить надеждой, вызвать улыбку на ее устах, но когда он прижал ее к сердцу, когда шепнул: «Прощай!», ее вдруг охватил непонятный ужас.
— А что, если я потеряю тебя! — проговорила она бледнея. — Мы предвидели все, кроме этого! Ты можешь умереть, Бенедикт, умереть раньше, чем сбудутся наши мечты о счастье!
— Умереть, — ответил он, осыпая ее поцелуями. — Разве может умереть человек, который так любит?
Валентина осторожно открыла дверь и на пороге еще раз поцеловала Бенедикта.
— Помнишь, здесь впервые ты поцеловала меня? — шепнул он ей.
— До завтра, — ответила она.
Не успела Валентина подняться в свою комнату, как дикий, леденящий крик раздался в саду, затем все смолкло, но крик был так страшен, что разбудил всю ферму.
Подкравшись к дому, Пьер Блютти увидел свет в спальне жены, не зная, что на этот вечер Атенаис уступила ее Валентине. Он отчетливо различил за занавеской две тени — мужчины и женщины; сомнений больше не оставалось. Напрасно Симонно пытался его успокоить; убедившись в безнадежности своих попыток и боясь быть замешанным в преступлении, он счел за благо удалиться. Блютти видел, как открылась дверь, луч света, проскользнувший в щелку, упал на лицо Бенедикта, и он узнал его; вслед за Бенедиктом вышла женщина, но ее лица Пьер не разглядел, так как Бенедикт обнял женщину и заслонил от его глаз своей спиной, но… это могла быть лишь Атенаис. Несчастный ревнивец поставил стоймя вилы, как раз в том месте и в ту минуту, когда Бенедикт, спеша выбраться из сада, перелез через каменную ограду, хранившую еще со вчерашнего дня след его ноги. Он разбежался, прыгнул и угодил на острые зубцы вил: два острия пронзили ему грудь, и он упал, обливаясь кровью.
На том же самом месте два года назад он вел под руку Валентину, когда она тайком пробиралась на ферму повидаться с сестрой.
Когда убийство было обнаружено, на ферме началось смятение. Блютти убежал, чтобы предать себя в руки королевского прокурора, и признался ему во всем: убитый был его соперником и погиб в саду убийцы, следовательно, Пьер мог в качестве оправдания сослаться на то, что принял его за вора. В глазах закона он заслуживал снисхождения, а в глазах представителя власти, которому поведал о своей страсти, побудившей его на убийство, и о терзавших его угрызениях совести, он был достоин жалости. Судебный процесс вызвал бы громкий скандал и покрыл бы позором все семейство Лери, самое уважаемое в департаменте. Против Пьера Блютти преследования возбуждено не было.
Тело перенесли в столовую.
Валентина успела еще увидеть улыбку, услышать обращенные к ней слова. Бенедикт умер на ее груди.
Дядюшка Лери еле довел Валентину до комнаты, пока тетушка Лери хлопотала над лишившейся чувств Атенаис.
Луиза, бледная, холодная — лишь одна она не потеряла разума и способности страдать, — осталась возле тела.
Через час за ней пришел Лери.
— Вашей сестрице очень худо, — удрученно проговорил старик. — Пойдите помогите ей. А я, побуду здесь.
Ничего не ответив, Луиза вошла в спальню к сестре.
Лери уложил Валентину в постель. Лицо ее позеленело, из мрачно сверкавших глаз не скатилось ни слезинки. Пальцы были судорожно сжаты вокруг, из груди вырывались хрипы.
Луиза, тоже бледная, но внешне спокойная, взяла светильник и нагнулась над сестрой.
Когда взгляды двух женщин встретились, между ними возник как бы страшный магнетизм. Лицо Луизы выражало жестокое презрение, леденящую ненависть, черты Валентины исказил ужас, и она тщетно пыталась укрыться от этого безмолвного допроса, от этого мстительного призрака.
— Итак, — начала Луиза, запустив пальцы в сбившиеся кудри Валентины, словно желая их вырвать, — вы его убили!
— Да, я, я! — пролепетала Валентина.
— Это должно было произойти, — продолжала Луиза. — Он сам этого хотел, он связал свою судьбу с вашей судьбой, и вы его погубили. Так продолжайте же свое дело, возьмите также и мою жизнь, ибо его жизнь была и моей жизнью, и я, я его не переживу! Знайте же, вы нанесли двойной удар! Нет, не кичитесь тем, что вы никому не принесли зла! Что ж, торжествуйте! Вы вытеснили меня, каждый день, каждый час вы терзали мое сердце и теперь вонзили в него нож. Что ж, прекрасно, Валентина, вы завершили дело вашей семьи. Видно, мне на роду было написано терпеть от вашего семейства только зло! Вы дочь своей матери, вы дочь своего отца, который тоже прекрасно умел проливать чужую кровь! Это вы завлекли меня сюда, где мне не следовало бы появляться, это вы, как василиск, заворожили меня, удерживали здесь, чтобы без помех терзать меня. Ах, вы и представления не имеете, как я настрадалась из-за вас! Можете гордиться — успех превзошел все ваши ожидания. Вы не знали, как я любила его, того, кто сейчас мертв! Но вы его околдовали, и он уже не видел ничего вокруг. А я, я могла бы сделать его счастливым. Не стала бы мучить его, как вы. Я бы пожертвовала ради него тем, что лицемерно зовется безупречной репутацией и принципами, внушенными гордыней! Я не превратила бы его жизнь в каждодневную пытку. Его юность, столь прекрасная и столь сладостная, не поблекла бы под моими себялюбивыми ласками! Он не погиб бы по моей вине, истерзанный печалью и лишениями! И, наконец, я не заманила бы его в ловушку, не предала бы в руки убийцы. Если бы он пожелал полюбить меня, он и сейчас был бы полон жизни и радужных надежд на будущее! Будь проклята ты, которая встала на моем пути!
Осыпая Валентину проклятиями, несчастная Луиза лишилась сил и без чувств упала у постели сестры.
Когда она пришла в себя, она уже не помнила, что наговорила сестре. Она с любовью ухаживала за Валентиной, осыпала ее ласками, обливаясь слезами. Но ей не удалось изгладить ужасное впечатление от своей невольной исповеди. В приступах лихорадки Валентина бросалась в объятия сестры, и был ужас безумия в том, как она вымаливала прощение. Через неделю она скончалась. Религия смягчила своим бальзамом ее последние минуты, а нежность Луизы облегчила суровый переход с земли на небеса.