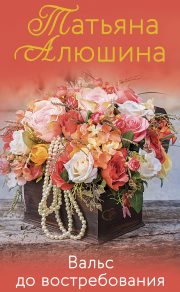– Да, прости за тон, – вздохнула обреченно, смиряясь с действительностью, Марьяна. – Я как-то упустила этот момент из виду, да просто не задумывалась о всеобщей этой глобализации, в первую очередь информативной, и о практически полном отсутствии приватности человеческой жизни. Я всегда была в стороне от бизнеса мужа, а он меня в подробности своих дел не посвящал, мог рассказать о каком-нибудь большом проекте, о своих замыслах, поделиться переживаниями и размышлениями, пожаловаться на конкурентов, чиновников и нечистых на руку партнеров, на повальную коррупцию, но в детали не посвящал, а я не интересовалась. – И она улыбнулась, перейдя на шутливый тон: – То есть мы все под колпаком?
– Ты даже не представляешь, под каким, – рассмеялся Ян. – Даже о бабульке восьмидесяти лет, живущей в глухой заброшенной деревеньке без электричества и тем паче без интернета, известно все. Конечно, ее роман с соседским дедулькой, решившим тряхнуть молодостью, подавшись ретивому, вряд ли станет достоянием общественности, хотя вполне возможно и такое, если их внуки или завистливые соседи выложат посты и фото этой парочки в Сеть. Но вся информация о бабушке имеется, не сомневайся, от родилась-училась, замуж вышла, развелась-овдовела, дети-внуки, их подноготная, абсолютно все документы, болячки, банковские карты и покупки в сельпо. А уж если человек, как тот дельфин, нарисовался, выпрыгнув над поверхностью общей глади, то понятное дело, что о нем собираются гораздо более подробные сведения, чем об обычном гражданине, и мониторится вся его жизнь. Особенно сейчас, во время пандемии, ускорившей в разы процесс нашей полной цифровизации, повальное погружение в Сеть, перевод практически всех платежей и оформление всех документов в интернет, сохранить свое инкогнито и тайны личной жизни нет возможности уже ни у кого.
– То есть ты знаешь обо мне все? – вздохнула печально Марианна. – Никакой тайны?
– Нет, далеко не все. Я, конечно, знаю о твоих разбитых пальцах на левой ноге и про операцию на правом колене, о том, что ты не ешь красное мясо и не любишь молочные продукты, а твой ежедневный рацион много лет не превышает двух тысяч калорий, что ты не любишь хризантемы и алые и красные розы, и здорово умеешь кататься на коньках, но долгие годы не позволяла себе этой забавы, оберегая ноги от лишних возможных травм, и еще множество подобных фактов и фактиков. Но, уверяю тебя, я не знаю твоих сокровенных тайн, не знаю образа и хода твоих мыслей, того, что тебя тревожит, чего ты боишься и что любишь, но очень хочу все это знать. Потому что для меня это важно, потому что ты важна мне как женщина, как близкий друг, как личность. И вообще… – Он резко откатился от стола и протянул призывно руку к Марианне. – Иди ко мне, я соскучился.
Она тихо, светло рассмеялась, поднялась со своего места и шагнула навстречу, вложив свою узкую ладошку в его ожидающую ладонь, позволив увлечь себя, и упала к нему на колени, оказавшись немедленно в кругу сильных, горячих рук Яна. И он зашептал ей что-то жаркое, сексуальное в ушко, и целовал ее дивную изящную шейку, и Марьяна, сразу же позабыв о предмете их разговора, о том, почему она вот только минутку назад так расстраивалась, отдалась сексуальному жару, мгновенно захватившему их обоих, делая ненужными и пустыми все разговоры и недоумения.
Длинными заездами по дому на навороченной суперколяске Яна они пренебрегли, добравшись лишь до ближайшего дивана, на который и повалились, целуясь и нетерпеливо срывая одежду друг с друга. И соединились сразу, с ходу, быстро, мощно, целеустремленно ведомые Яном к апофеозу, к той заветной вершине, на которую надо обязательно подняться вдвоем, поддерживая друг друга. Стонали, целовались и неслись, неслись, неслись вперед…
– Так что там про балет? – лежа сверху женщины распластанным, безвольным телом, прохрипел Ян, едва переведя дух.
– Ты уверен, что прямо сейчас хочешь о нем поговорить? – улыбнулась Марианна, не открывая глаз.
– Мы обмениваемся рассказами о жизни, лучше узнаем друг друга. Это важно, – лениво растягивая слова, обдавая горячим дыханием ее правую грудь, пояснил Стаховский.
– Балет – это круто, – произнесла, усмехнувшись, Марианна.
– Полностью согласен с данным утверждением. – Он поднял голову, погладил и поцеловал ее ножку, расслабленно лежавшую на его плече, приподнялся на руках, порассматривал ее довольным, удовлетворенным взором и поинтересовался: – Как насчет чаю?
– То есть про балет уже неактуально? – смотрела на него веселыми глазами Марьяна.
– Про балет для меня теперь актуально всегда, полная форева. Балет, можно сказать, теперь мое всё, – заверил ее Стаховский.
Распрямился, передвинулся на диване, одним ловким, мощным движением перенес свое тело в коляску и поделился задуманной им дальнейшей программой:
– Мы сейчас растопим камин, устроимся возле него за маленьким столиком, будем пить чай с брусничным пирогом твоей мамы и вести неспешные, проникновенные беседы. Уютно, по-дачному, как и положено долгими, холодными вечерами.
– Кто бы мог подумать, что блистательный Ян Стаховский, – приподнявшись на локте, посмеивалась с удовольствием Марианна, – окажется любителем тихих, уютных загородных вечеров и посиделок у камина.
– Никто, – уверил ее Ян. – Я совершенствуюсь во всех аспектах, в том числе в философском восприятии жизни.
И, поддаваясь переполнявшим его чувствам, какой-то искристой, радостной энергии, выскочил обратно из коляски, обнял Марианну, опрокинул навзничь на диван, поцеловал и продлил, продлил этот дивный поцелуй той особенной сладкой неги послевкусия великолепного оргазма – благодаря и обещая…
Стаховский не дал ничего делать Марианне, не разрешил помогать, а, усадив дорогую гостью в классическое английское кресло с высокой спинкой и «ушами», распорядился расслабляться и отдыхать, пока он займется воплощением придуманного им плана. Сноровисто разжег камин, заварил чай в большом керамическом чайнике, в две ходки: кухня – кресельный уголок у камина – и обратно. Привез и расставил на небольшом кофейном столике две чайные пары, тарелочки к ним с десертными ложечками и вилочками, вазочки с медом и джемом, последней водрузив в центр стола тарелку с пирогом, разогревать который вторично они решили излишним. Такую вот красоту навел. А для создания особой атмосферы и уюта выключил общий свет, оставив лишь торшер на тонкой высокой полукруглой ножке над кресельной зоной.
И перебрался из каталки во второе кресло. И все, угомонился. Посидели, немного помолчали, слушая тишину, наблюдая, как схватываются пламенем поленья в камине, не тревожа суетой обнявшую их спокойную уютность, Ян неторопливо разлил чай по чашкам, одну протянул Марьяне и только после этого повторил свой вопрос про ее балетную жизнь.
– Есть одно очень точное определение балета, – задумчиво произнесла Марианна, поглядывая на занявшиеся ровным, веселым пламенем дрова в камине, баюкая в ладошках чашку с чаем, в полном соответствии картинке про идеальный дачный зимний вечер с долгими, неспешными беседами у камина, что создавал и выстраивал Ян. – Одна очень знаменитая, блистательная балерина сказала как-то: «Балет – это каторга в цветах». На мой взгляд, самое емкое и самое точное определение. Балет – это пот, кровь, бесчисленные травмы и постоянная боль. Болят перегруженные мышцы, когда ты упорно, раз за разом повторяешь и повторяешь связку элементов, пока не добьешься идеального исполнения, болят поврежденные суставы, разбиваются в кровь пальцы и стопы ног, болят, кажется, все кости после многочасовых репетиций до изнеможения. Закулисье великолепного, возвышенного и прекрасного искусства балета – это каждодневный, каторжный, бесконечный, упорный труд, железная воля, преодоление боли и самого себя.
Замолчала. Ян не задавал наводящих вопросов, не торопил, даже дышать старался потише, чтобы не потревожить, не разрушить тонкий момент ее откровения. Марианна смотрела на огонь, задумавшись, погрузившись в свои мысли, в прошлое. Сделала пару глотков душистого чая, перевела взгляд на Стаховского и продолжила:
– Но, знаешь, сцена стоит всего: и жизни, и смерти, и этой каторги. В тот момент, когда ты выходишь на сцену, все приобретает великий смысл. Ты стоишь за кулисой, тебя бьет мандраж, ты с ужасом осознаешь, что забыла напрочь весь рисунок танца, все, что репетировала месяцами, оттачивая до бесконечности, все связки, движения, ты вообще забыла, как танцевать, ничего не помнишь и не можешь. Но в тот миг, когда ты, полуживая от ужаса, выбегаешь из-за кулис, ты словно проходишь через невидимый портал и попадаешь в другое измерение, в иное состояние своего сознания и восприятия действительности. Какие-то невероятные силы и энергии наполняют тебя, и ты будто паришь, сливаясь всем своим существом в единое целое с музыкой, с ритмом и танцем, растворяясь в них. Это такое непередаваемое состояние полета, гармонии и истинной правильности всего, что ты делаешь.