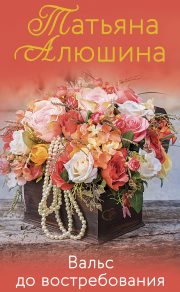И внезапно, резко крутанув колеса коляски, подъехал к Марьяне, взял ее ладони, наклонился вперед и заглянул близко в лицо.
– Побег – это не выход, Марьяночка. И потакания Кирту в его моральном садизме, и игра по его правилам – тоже не выход, – объяснял Ян проникновенным, тихим голосом. – Я могу тебе помочь. Я сделаю так, что он перестанет тебя донимать, поскольку ему будет чем плотно заняться, спасая свой бизнес и унося собственную задницу из-под нехилой раздачи. Мы справимся, Марианна, – постарался вложить как можно больше убедительности в свои слова Стаховский и повторил: – Мы справимся вместе.
– Нет, Ян, – отказалась она тихим голосом, всматриваясь в его глаза. – А если у тебя не получится или, наоборот, получится слишком хорошо и от этого станет только хуже? Кирт может решить, что проще сбежать из страны, и прихватит с собой сына, что тогда? К тому же как долго мы сможем держать в тайне нашу с тобой связь? Ты же сам объяснял, что в современном мире, тем более в мегаполисе, сохранить что-то в тайне практически невозможно. И даже если мы будем соблюдать все возможные предосторожности, что-то да просочится в интернет, а оттуда мгновенно дойдет до него. Взять хотя бы мою маму, она уже заподозрила что-то необычное в моем поведении, а если она, из самых лучших побуждений, поделится со своими подругами, а те в свою очередь упомянут об этом своим подругам, а кто-то ненароком снимет нас вместе, сопоставит факты и выложит в интернет? Вон уже твоя Анжелика знает, какая гарантия, что она не выложит пост о нас с тобой? Да одного приказа Кирта хватит, чтобы его служба безопасности выяснила, где ты живешь, отследила мои передвижения по геолокации телефона и узнала, что я регулярно приезжаю к тебе. И все. Знаешь, как у Арбениной: «постоянно пахнет порохом молва». Вот и мне пахнет порохом, Ян. – И повторила с откровенной безнадежностью в голосе: – Нет, пока мне удается держать ситуацию в подобии равновесия, не обострять и не провоцировать казус белли, я буду соблюдать наши с ним договоренности и стараться не подставляться.
– А если их нарушит он? Непредсказуемо и в один момент, тогда что? – спросил Стаховский и повторил свое предложение: – Я смогу с ним справиться. Поверь.
Она смотрела на него с удивлением и какой-то робкой надеждой, давшей неуверенный росточек на спасение, судорожно обдумывая, прокручивая в голове его слова, и Стаховский уловил тот момент, в который она окончательно и бесповоротно отказалась от предложенного им плана и от его помощи.
Положила ладонь Яну на щеку, всмотрелась близко-близко в его глаза своими огромными, казавшимися бездонными от накатывающихся слез темно-синими бархатными глазами, медленно приблизилась и прижалась губами к его губам горько-палевым, болезненным поцелуем.
Благодаря за все, что он подарил и дал ей, и прощаясь.
И Ян чувствовал всем своим существом, всем нутром, настроенным чутким камертоном на эту женщину: это ее прощание. Он понимал всю безнадежность дальнейших уговоров, и сердце плакало и разрывалось в унисон ее сердцу, исходившему бессильным криком.
– Я не могу, прости, – прошептала она мокрыми от вылившихся слез губами, разорвав их поцелуй, – кажется, я окончательно перетрусила, но я не стану рисковать. Понимаешь?
И он рванул ее к себе, усадил на ноги, прижал, прикрывая и защищая в объятиях своих сильных рук от всех напастей, и успокаивал, успокаивал:
– Я понимаю, понимаю, – гладил он ее по спине. – Ничего, ничего, – шептал, – не плачь. Не плачь, родная. Все будет хорошо.
И снова гладил, гладил, покачивая, уже не сдерживая своих слез, и все нашептывал что-то ободряющее, обнадеживающее и умиротворяющее, не тревожа больше ее истерзанной души разговорами. Как мог успокаивал. Как мог.
Она так и заснула у него на руках, измученная, опустошенная переживаниями, отчаянием и убаюканная его тихим голосом и словами. И он охранял этот ее сон, сидел несколько часов подряд, держа спящую любимую женщину на руках, все так же нежно покачивая, и думал о своем, глядя в прогорающие в угли дрова в камине.
Ян ворохнулся в кресле лишь под утро, перемещая Марианну с затекшего бедра на другое, но этого легкого движения хватило, чтобы она проснулась.
– Привет, – прошептал Стаховский и улыбнулся. – Ну ты как?
– Нормально. – Она потерла глаза, посмотрела на него и попросила: – Проводи меня домой.
– Да, – кивнул он, – провожу.
Они больше не возвращались к тому главному и тяжелому разговору, который пережили ночью как бедствие, как приговор суда, и Ян не повторял более попыток разубедить Марьяну, принять и услышать его аргументы и доводы. Только поцеловал у калитки ворот затяжным, продленным поцелуем, наполненным безысходной горечью расставания. Прервав который, Марианна подскочила с его ног и торопливо скрылась за калиткой, не произнеся слов прощания и даже не махнув рукой.
Все. Вот так бесповоротно и окончательно – все.
И он развернулся и поехал назад. Домой.
Она не могла спать, даже просто лежать в кровати не могла, не могла ни пить, ни есть, не могла найти для себя место хоть какого-то покоя, хоть притулиться где-то в уголке, спрятаться и убежать от себя – и то не могла. У нее надрывалась от безысходной муки душа, и невыплаканные слезы душили, не давали дышать, и она не могла ни о чем даже думать.
Что ж так больно-то, Господи!
Что ж так больно!
Единственное, что смогла осмыслить и четко понять Марианна в этот момент, что нельзя в таком состоянии показываться на глаза родным, которым она не сможет ничего объяснить, она даже говорить не сможет, какое уж там объяснение. И, осознав это в полной мере, представив испуганное лицо мамы, понимающей, что с ее дочерью творится какая-то страшная беда, Марианна начала судорожно собираться, кидая без разбору вещи, попадавшиеся под руку, в дорожную сумку, не отдавая себе отчета, что и зачем вообще туда кидает. Запихала, закрыла как-то и пошла будить маму.
– Мамуль, – позвала она шепотом спящую Елену Александровну.
– Да? – переполошенно уставилась та на дочь. – Что случилось?
– Ничего, извини, – шептала Марианна, – просто мне необходимо срочно уехать по делам в Москву. Кирюшка с вами останется, а завтра вы его привезете домой, ладно?
– Да, конечно, что ты спрашиваешь!
Елена Александровна попыталась сесть в постели, но Марьяна ее удержала.
– Не вставай, спи дальше. Я поехала.
– Точно ничего не случилось? – Мама проснулась уже достаточно для того, чтобы внимательно присмотреться к дочери и заподозрить неладное.
– Точно, – подтвердила Марианна. – Спи, я пошла.
– Езжай осторожно, – напутствовала ее Елена Александровна.
Да, осторожно. Конечно, осторожно, она по-другому не ездит.
Но только не в этот раз. Не в этот.
Марьяне было так плохо, так безысходно тошно, что казалось, что болит все тело, даже мозг и мысли, рождающиеся в нем, болят, а в груди жжет нестерпимо комок невыплаканных слез, удерживаемых лишь кое-как, болтающейся из последних сил ее волей.
Маясь и не зная куда деться и сбежать от этой изводящей боли, чтобы хоть как-то отвлечься от бесконечных мыслей, Марианна ткнула в кнопку магнитолы, и машину заполонили звуки прекрасной и странной музыки Альфреда Шнитке. Почувствовав, что в ее нынешнем состоянии эта музыка лишь усиливает ощущение глухой безысходности и полного душевного раздрая, Марианна поспешила переключить магнитолу с проигрывателя на радиоприемник. Пусть лучше болтает какой-нибудь бодро-жизнерадостный радиоведущий, сообщая новости и ставя незамысловатые современные песенки в перерывах между своей болтовней, пусть что-то крикливо-пустое ненавязчивым фоном…
Но вдруг, вместо ожидаемого клубного дерганого ритма или голоса того самого бодряка-ведущего, из динамиков раздался голос Елены Ваенги, выхваченный на фразе из песни:
– «…не смотри мне так в глаза – нельзя, нельзя…»
И, ударив по тормозам, кое-как справившись с управлением, Марианна свернула на обочину шоссе, включила на полном автомате, не соображая, что делает, аварийку, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Все – кончилась вся ее хваленая железная воля, добитая бархатным голосом Ваенги, рассказывавшей о невозможности запретной любви.
Крик и вой стояли в горле, и Марианна понимала, что если не подавит, не победит и выпустит этот вой наружу, то утонет в слезах и безысходности…
Она никогда не была ценителем и потребителем современной эстрады, но кое-какие песни модных и раскрученных исполнителей, понятное дело, слышала, и не раз, куда ж от них денешься. В том числе и Ваенгу. И пару раз как-то услышав эту песню, под нелогичным названием «Шопен», помнится, недоумевала, как это можно жалеть, что ты кого-то любишь? Жалеть о том, что любишь человека?