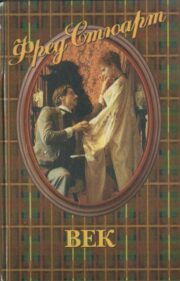— Вот почему его вчерашняя выходка особенно возмутила меня. Едва я проникся к нему доверием, даже начал им гордиться, как он устроил в доме дебош! Говорю тебе: это возмутительно!
Двойная дверь библиотеки отворилась, и дворецкий Сирил, уже многие годы кравший кларет из винного погреба Огастеса, объявил:
— Мистер Виктор.
Две пары глаз устремились на вошедшего молодого человека — свежего, чисто выбритого, одетого в свой лучший синий костюм. Под глазом еще темнел синяк, хотя опухоль на губе несколько спала.
— Виктор! — воскликнула Элис. — Слава Богу… Где ты пропадал?
— В Бруклине, — ответил он, подходя к ней, чтобы поцеловать в щеку.
— Но почему ты ничего нам не сказал? Я так беспокоилась…
— Извините, мама, но после вчерашнего вечера мне надо было кое-что обдумать.
Повернувшись к приемному отцу, он вытащил из кармана пиджака чек и подошел с ним к Огастесу.
— Сэр, вот чек на сто долларов. Надеюсь, этого хватит, чтобы возместить ущерб, который я нанес вам вчера. Я искренне прошу вас простить меня за драку. Я вел себя опрометчиво и…
До сих пор Огастес молчал, сцепив руки за спиной. Теперь же быстро поднял правую руку и сильно ударил Виктора по лицу. Молодой человек вздрогнул, а Элис вскрикнула:
— Огастес!
— Я не нуждаюсь в его лицемерных извинениях, — сказал банкир и пристально посмотрел на приемного сына. — Вчера вечером ты опозорил этот дом, выставил нас на посмешище всему городу. И теперь еще имеешь наглость предлагать мне чек?
Он выхватил у Виктора чек и поднес его к глазам.
— Откуда у тебя сто долларов? Ты их украл?
— Огастес, прекрати! — опять воскликнула Элис.
— У него не может быть столько денег!
— Я их занял, — произнес Виктор ровным голосом, — у своих итальянских друзей из Бруклина. Я буду выплачивать долг по десять долларов в месяц плюс четыре процента. Если ста долларов мало, я займу еще. Так как, этого хватит?
— Более чем, — ответила Элис. — Огастес, верни ему чек, я сама заплачу за разбитую посуду…
— И не подумаю, — сказал банкир, кладя чек в бумажник, а бумажник в карман сюртука. — Этой суммы достаточно, — продолжал он, обращаясь к Виктору. — Я принимаю твои извинения, потому что у меня нет выбора. Но если подобное позорное происшествие повторится…
— Не повторится, — пообещал Виктор, — потому что сегодня я перееду от вас.
На лице Огастеса появилось удивленное выражение.
— Что ты сказал?
Молодой человек сделал шаг назад, чтобы обратиться одновременно к обоим супругам.
— Я слишком долго, — произнес он спокойно, — пользовался вашим кровом и… гостеприимством, за которое от души благодарен, но мне уже двадцать два года, и даже если бы я был вам родным сыном, мне пора было бы начать самостоятельную жизнь. Это тем более необходимо сделать, поскольку я приемный сын и стал… гм… причиной некоторой напряженности в доме.
— Но куда же ты пойдешь? — спросила Элис.
— Людей, одолживших мне деньги, зовут Риччоне. Они владеют небольшим рестораном на Томсон-стрит, где я иногда обедал перед занятиями в вечерней школе. У них есть друг, доктор Марио Диффата, владелец большого дома в Бруклине; доктор приехал в Америку больше двадцати лет назад, практикует в основном среди итальянцев, которых теперь немало в Бруклине. У доктора Диффаты есть свободная комната, и он сдаст ее мне за двадцать долларов в месяц, включая оплату завтраков. Сегодня в ресторанчике мы с ним познакомились, и он мне понравился. Я переезжаю в его дом сегодня же вечером, он живет всего в нескольких кварталах от Бруклинского моста, и я смогу поездом ездить оттуда на работу, если, конечно, я все еще нужен в банке.
Воцарилось долгое молчание. Потом Элис, с лица которой не сходило напряженное выражение, взяла Виктора за руку:
— Конечно, нужен, не правда ли, Огастес?
Ее муж прочистил горло и согласился:
— Разумеется. У меня нет основания жаловаться на твою работу. Ты прекрасно справляешься со своими обязанностями кассира.
— Вот видишь? — Элис заставила себя улыбнуться. — И с обязанностями сына ты прекрасно справился. Помни, здесь всегда рады тебя видеть, что бы ни случилось. Как мне ни горько, что ты покинешь этот дом, я прекрасно понимаю твои чувства и думаю, что ты поступаешь правильно. Но обещай всегда помнить о нас, заходить к нам… ко мне. Ты мне очень дорог, знай это.
Глаза Виктора наполнились слезами. Он наклонился и обнял приемную мать.
— Я никогда вас не забуду, — сказал он, — никогда, сколько буду жив. И, конечно, буду навещать вас. Один раз в неделю обязательно… Могу и чаще, если хотите.
Элис взяла в ладони его лицо.
— О, сын мой, — прошептала она, — я так тебя люблю!
Она улыбалась, но в глазах ее тоже стояли слезы. И тут Огастес удивил их обоих.
— Ты уверен, что хочешь переехать? — спросил он тихо и добавил: — Мне тоже будет тебя не хватать.
Не веря своим ушам, Виктор взглянул на него, вспоминая недавнюю пощечину и десять лет враждебности Огастеса.
— Я уверен, — ответил молодой человек.
Солнце на чистом зимнем небе опустилось уже довольно низко, когда Виктор, расплатившись, вышел из кеба и оказался перед жилищем доктора Диффаты. Этот белый дом с башенками стоял на холме на берегу Ист-ривер, по ту сторону которой виднелся берег Манхэттена; с юго-западной стороны открывался великолепный вид на Гавенорз-айленд и канал. Дом окружали широкая терраса с балюстрадой и красивый двор. Вокруг росли рододендроны, поразившие Виктора своими размерами. Начав терять из-за холодов листву, рододендроны стояли с прогнувшимися под двухдюймовым слоем свежевыпавшего снега ветвями.
Подойдя ко входу, молодой человек позвонил в колокольчик и ждал, с любопытством заглядывая в выложенное стеклянными ромбиками окошко в двери.
Виктору открыл молодой толстяк с прыщавым лицом.
— Ты наш новый постоялец? — спросил он по-итальянски. — Я Джанни Диффата, сын доктора. Единственный сын. И достаточно взрослый — мой старик уже и не пытается приглядывать за мной. — Толстяк хихикнул.
Пожав ему руку, Виктор оглядел темный вестибюль. Даже если бы это помещение не пропахло соусом к спагетти, то и тогда нетрудно было бы догадаться, что владелец дома — итальянец.
Одну из стен, оклеенных красно-белыми обоями, украшали огромный портрет Виктора Эммануила II (над ним были укреплены два итальянских флажка), портреты Гарибальди и Верди, висевшие вплотную к большому пейзажу, изображавшему Неапольский залив; в углу под лестницей на высокой подставке стоял бюст Данте.
— Старик тебя ждет, — сказал Джанни, провожая Виктора в гостиную.
Расположенная внутри башни, эта большая круглая комната была полна пальм и массивной мебели, на фоне кружевных занавесей возвышалась большая мраморная статуя обнаженной девушки, застенчиво закрывавшей руками в ямочках грудь и библейское место.
— Почему ты решил поселиться у нас? — задал вопрос Джанни, обходя покрытый ажурной скатертью круглый столик на ножке в виде лапы, заставленный семейными фотографиями. На нем также стояла слащавая статуэтка, изображавшая мальчика, который проливал слезы над своей погибшей собакой. — Старик сказал, что ты живешь на Пятой авеню, где полным-полно миллионеров.
— На Медисон-авеню. Будем считать, что я соскучился по Италии.
— По землякам, да? — Джанни ухмыльнулся и хлопнул Виктора по спине: — Отлично! А у тебя есть девчонка? Моя может привести подружку — настоящую красотку, бьюсь об заклад, ты ей понравишься. Но она не позволит тебе даже поцелуя, воспитывалась в монастыре. Если хочешь большего, то я знаю несколько еврейских девушек в Вильямсбурге, они-то ради гроша никому не откажут. Эти чертовы кайки[19] заполонили весь Вильямсбург.
— Ты, видно, недолюбливаешь евреев?
— Недолюбливаю? Да я их ненавижу!
Джанни провел Виктора через неосвещенную столовую в большую белую кухню, где полная женщина в фартуке мешала что-то в большом горшке, стоявшем на топившейся углем плите.
— Миссис Лукарелли, познакомьтесь, пожалуйста, с нашим новым постояльцем. Это наша экономка. Она заботится о нас с отцом с тех пор, как умерла мама. Миссис Лукарелли сказочно вкусно готовит. Относись к ней хорошо и станешь таким же толстым, как мы все.