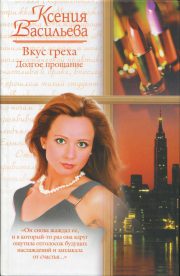Она его леденила, как Снежная королева.
Тело ее было прохладным, и она вздрагивала каждый раз, как только он прикасался к ней…
И вдруг в Мите стала пробиваться какая-то мысль… Вера сейчас так напоминала ему Нэлю в первую их ночь!.. Но этого не может быть! «Почему?» — спросил он себя. — Почему не может быть? В этой стране могут быть любые чудеса». И он шепнул ей на ухо: «Ты невинна?»
Она, закрыв глаза, еле видимо кивнула.
…Та-ак. Хорошенький сюрприз. Надо одеваться и быстренько проваживать ее домой. Не хватало ему еще и этого! Расхлебывать эту историю до конца дней… Как бы это сделать по-тактичнее?..
Но вдруг услышал ее шепот: «Митя, мне все равно… Нет! Я хочу, чтобы это был ты. Не бойся меня, я никогда… Не обращай ни на что внимания… Я хочу быть с тобой…»
Этот полудетский шепот взрослой женщины сначала привел его в шоковое состояние, потом вдруг страшно возбудил, как будто и сам он невинен и сейчас впервые познает женщину… Его подхватила волна вдохновения, и он бросился к Вере, целовал ее прекрасные пышные нежные груди и уже не мог сдержать себя — вошел в нее, не соблюдая осторожности, как хотел.
Она широко раскрыла глаза и вскрикнула, и этот крик отдался в нем бурей страсти, которая затопила его с головой, а бедная жертва корчилась под ним от боли и разочарования, но любила его еще больше.
Наконец он достиг разреженных вершин и в полубессознательном состоянии лег на нее, обливаясь потом.
Это было какое-то еще неизведанное им наслаждение. Он любил Веру безумно и, поцеловав ее долгим поцелуем, сказал: «Спасибо, любовь моя…»
Он снова жаждал ее, и в который-то раз она вдруг ощутила отголосок будущих наслаждений и заплакала от счастья. И он был счастлив.
Пришла ночь.
Митя наконец свалился, уничтоженный неистовством.
А Вера не спала. Она просто не могла спать, пока хаос, в котором она пребывала, не преобразится в привычный мир… Ее не отпускало родное теперь лицо Мити. Не искаженное страстью, — обычное мягкое лицо спящего человека.
Она смотрела на его тонкие губы, на еще пылающие жаром скулы, на волосы, волной спадающие на гладкий лоб… Лицо, которое стало главным в ее перевернутом мире.
«…Митя, Митя, — шептала она этому спокойному сейчас лицу, — я люблю тебя и буду любить всегда… но никто не узнает об этом. Я буду знать это и беречь…» — повторяла она.
И вдруг неожиданно заснула, кажется, даже прежде, чем закрылись глаза.
Когда она проснулась, серая пелена за окном уже просвечивала голубизной от восходящего, но еще невидимого солнца.
Комната тихо наполнялась утром, и стали четко вырисовываться чужие предметы — мебель, трюмо, окно, распахнутое прямо в небо, а у нее дома — купы деревьев затемняют всю ее светелку… Все было чужим и как бы враждебным.
Она села в постели и сразу же отразилась в зеркале напротив: растерянный взгляд, встрепанные волосы, большая грудь и белые прямые плечи. Она себе опять не понравилась. И взглянула на Митю — видит ли он ее? Но он спал, откинув простыню, открыв безволосую загорелую грудь с двумя темными сосками и впалый живот, по которому́ струйкой от пупка бежал темный ручеек волос…
…Вера вдруг поняла, что испытывает сейчас к нему скорее материнскую любовь, нежели женскую. Он был так спокоен во сне, так юн, не мужчина, а мальчик лежал, невинно обнажившись.
Она вдруг безудержно стала целовать его грудь, прикасаясь нежно губами к соскам, и почувствовала, как он напрягся…
Она посмотрела ему в лицо — оно еще было затуманенным, но Митя уже открыл глаза… Зачем она поцеловала его! Когда он спал, то был так прекрасен!..
Подчиняясь его необузданному, внезапному, как смерч, желанию, она, уже безвольно лежа на спине и принимая его в себя, с сожалением почувствовала, как уходит светлое, почти материнское чувство, и она наполняется, как и он, неистовством и желанием, даже сквозь боль.
Как покорна она была! Покорностью норовистой кобылицы, которая еще остерегается своего наездника, но уже готова взбрыкнуть и выкинуть его из седла. Это приводило его в восторг.
Вера собралась на работу, и Митя не смог ее уговорить остаться. Он сварил кофе, принес ей в постель.
Отвел в ванную и, пока она принимала душ, стоял в дверях полностью обнаженный, куря сигарету и обсуждая с ней меню обеда, который собирался приготовить для нее. А она, как посконная деревенщина, стеснялась и его и своей наготы — поворачивалась как бы невзначай спиной, боком, прикрывала опять-таки будто случайно грудь.
Он заметил: «Ты стесняешься? Но ты — изумительна, дурочка!»
Он засмеялся, подошел к ней и, протянув под душ руку, погладил одну из ее грудей. Глаза у него загорелись и он сказал, бросив сигарету в раковину: «А не принять ли мне душ с тобой?..»
Она тут же выключила воду, будто не услышав, и вышла из ванны, попав к нему в объятия, где он надолго задержал ее, и опять она была ему покорна.
Наконец-то она была у входной двери. Он поцеловал ее в щеку и попросил прощения за то, что не провожает. «Конспирация, — скривился он. — Что поделаешь».
По дороге на работу ей казалось, что день там будет для нее невыносимым. Но случилось наоборот. Каждая мелочь оказалась окрашенной по-новому, потому что была уже ПОСЛЕ… И во всем, в каждой мелочи был Митя.
Среди дня вдруг раздался звонок, которого она ждала с первой минуты прихода на работу. Митин голос был другим, чем утром, когда он провожал ее до двери, он сказал: «Девочка моя, я умираю, — и бесстыдно выдохнул: — я хочу тебя…»
Она вспыхнула, как могут вспыхивать рыжие: огненным цветом, и шепотом ответила: «Я — тоже. Если смогу — уйду сейчас».
— Смоги, — взмолился он. И оба замерли от жгучего яда, вошедшего им в плоть и кровь. Яда желания.
Она шла до Митиного дома пешком. Заходила в магазины, покупала всякую дребедень — просто так, от счастья, — в цветочном магазине купила букет цветов, который отдала через несколько минут девочке со скакалкой, даже не удосужившись понять, обрадовалась та или нет. А почти у дома Мити выбросила в урну носовые мужские платки, которые вдруг захотелось купить. И за эти все покупки стыдила себя и стыдилась их.
На шестой этаж она поднималась пешком — у лифта колготился народ и, вполне вероятно, тот самый Казаков — холостяк, к которому она «ходит». Она рассмеялась.
Утром Митя дал ей ключи, и она, открыв дверь, увидела его, ждущего ее у знаменитой теперь вешалки.
Но он не бросился ни на нее, ни к ней. Сегодня он был совсем другим. Нежным.
Он сказал: «Я так скучал по тебе, если бы ты не пришла еще пять — десять минут, бросился бы встречать, — и прислонился головой к ее плечу.
Она вдруг погладила его по волосам, удивившись этому своему жесту так же, как и сегодняшнему Митиному состоянию.
…Митя, Митя, — сказочник!.. Мальчик-с-пальчик, уводящий бедняжку Гретель к пряничному домику.
Он торжественно ввел ее в столовую.
За обедом, который сам и подавал, он рассказывал о своем походе на рынок, о том, как и что там продается, сознавшись, что больше всего он любит рынки и шлянье по ним, и что в воскресенье они вместе пойдут туда.
Так они обедали, болтали, и Вера, следя за ним, подумала, что Митя талантливо и самозабвенно играет роль ее мужа настолько искренне, что и она начинает не только подыгрывать ему, но и вживается в эту роль, которая отдана другой по праву.
Ведь она, Вера, сидит на чужом месте, ходит по чужим половицам и, как в той сказке о медведях, находясь в чужой постели, вынуждена будет бежать из нее при появлении истинной хозяйки. Хотя Митя сделал все, чтобы присутствие другой, настоящей, никак не чувствовалось в квартире.
После обеда они не помчались как оглашенные в постель, а сидели на диване, прижавшись друг к другу, и курили.
И Митя вдруг сказал: «Я о тебе часто думал там…»
Вера улыбнулась, и улыбка почему-то получилась снисходительной, и это огорчило Митю. Но положа руку на сердце — огорчился он раньше, когда ни с того ни с сего соврал.
Он заупрямился: «Нет, это правда. Тебе кажется, что я придумываю, хочу себя реабилитировать? Нет. Я думал о тебе странно: никогда и всегда… А изредка совсем реально, — будто рядом не жена, а ты… И знал, что увижу тебя здесь и все будет примерно, как сейчас».