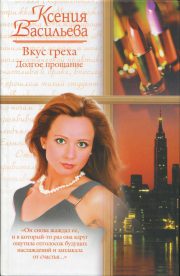Пьяны были и гости — какие-то девицы и парни. Услышав несчастную Митину краткую историю из уст парня-таксиста, увидев солидный заграничный кофр, все радостно загомонили и пригласили в дом. Втащили кофр, на него Митя и присел за большой стол, заваленный остатками закусок и бутылками. Он потихоньку налил себе полстакана водки и выпил. А через мгновение ткнулся головой в стол и заснул.
Хозяева оттащили его на самодельную тахту и продолжили гулянье.
Проснулся Митя без всякого будильника вовремя. Он открыл глаза и с отвращением и тоской вспомнил вчерашнее. Это казалось чудовищным и — увы! — непоправимым.
Он оглядел голую огромную комнату с желтенькими обоями в пятнах, стол с остатками вчерашнего пира. Его кофр выглядел здесь брезгливым богачом среди нищих.
Митя встал. Костюм его был помят, лицо — тяжелым и набрякшим. В сенях он нашел ведро с водой, умылся, вытерся носовым платком и вышел на улицу.
Стоял молоденький морозец, сделавший снег хрупким и блестящим, почти игрушечным.
Лианозово шло на работу. Горели в темноте зимнего утра огни окон, натужно завывал автобус, по тропинке мимо текли людские ручьи. И только неподвижны под шапками снега стояли тихие деревья.
Митя вдруг ощутил свою причастность к природе и деревьям, и людям, идущим на работу, и почувствовал прилив какого-то раннего школьного счастья. Он закрыл глаза и постоял так, не замерзая, чувствуя лишь легкое дыхание мороза, принесшее благостность в его истерзанную душу.
Как захотелось ему здесь остаться и не идти никуда!.. Не видеть Олю…
Об этом свидании думалось с безмерной усталостью и печалью.
Но идти надо.
И он, вздохнув, вошел в дом. На столе увидел дамскую пудреницу.
Посмотрелся в маленькое зеркало, пронаблюдал фингал и часть опухшей щеки… Снова вышел во дворик уже с утилитарной целью — приложить к наболевшим местам снег.
Лицо загорелось, к нему прилила кровь, и Митя стал выглядеть не таким безнадежно несчастным.
На работу — к счастью! — он пришел раньше всех и, забравшись в свою каморку, не высовывал из нее носа. Начальница даже крикнула где-то уже в конце рабочего дня:
— Вадим Александрович! Вы здесь?
На что он глухо ответил:
— Да, — стыдясь и себя, и своего положения и не желая никого видеть.
Оля не зашла к нему в обеденный перерыв, за что он ей был благодарен, однако встревожился: может, с ней уже поговорили? И завтра ему объявят об увольнении?
За сегодняшнее одинокое время Митя старался не думать о своей жизни и судьбе. Он не был готов для этого… Хотя кто-нибудь разве бывает к такому готов?..
Решил он только одно. Закончить этот нелепый роман.
О себе он не беспокоился в этом плане. Оля для него была лишь эпизодом — девочкой, непозволительно возбудившей его заснувшую было чувственность и не затронувшей сердца.
Да и он для нее — скорее всего проба сил.
Единственное, чего ему хотелось, — это быстро снять приличную комнату, лечь в свежую постель и заснуть.
О Лианозове он думал с содроганием, хотя ничего плохого ему там не сделали.
После работы он длительное время выжидал, пока все уйдут, потом осторожно вышел. Никого.
Олин стол был девственно пуст.
Это Митя отметил с облегчением, но вместе с тем непроизвольно взгрустнул. Надо ехать в Лианозово, к совсем чужим людям. Уж лучше Оля с ее провожаниями, тем более он сейчас свободен как пташка. Поговорить можно с ней и завтра, а сегодня, ничего себе не позволяя, сходить хотя бы в кафе, выпить кофе или бокал шампанского.
Он нехотя шел к метро. Кто-то взял его под руку. Оля.
Она была замерзшая до синевы, со странно опущенными уголками глаз. Обычно ее глаза как две счастливые ласточки взмывали к вискам, а сегодня эти оттянутые вниз глаза придавали лицу несчастное выражение.
— Что с тобой, Оленька? — спросил Митя, прижимая локтем ее руку.
— Я вас, наверное, час жду, — ответила она жалобно. Никак не могла Оля называть его на ты.
Они вышли к фонарю, и она, увидев его «расписное» лицо, тут же перестала думать о своем настроении и воскликнула:
— Что с вами, Вадим Александрович? — Ее напугал вид Мити.
— На меня напали, Оленька, — солгал он первое пришедшее в голову.
Она истерично вскрикнула:
— Кто? Где?
— Да что ты так разволновалась, — успокаивающе сказал он, несколько оторопев от такого бурного проявления чувств, — был у приятеля, вышли пройтись, какая-то шпана попросила закурить, мы не дали, затеялась драка. Вот и все.
— Но вас могли убить… — прошептала она.
— Ну уж и убить, — усмехнулся Митя и, желая отвлечь ее, спросил: — А тебе не будет стыдно идти со мной в кафе?
— В кафе? — удивилась она, потому что он никуда еще ее не приглашал.
Митя вдруг подумал, что он сглупил с этим кафе. Там опять установится некая близость… На улице лучше, в такую погоду… можно быстро все сказать ей. Не надо тянуть.
— Я пошутил, Оленька. С такой красавицей мне сегодня в кафе появляться нельзя. Давай пройдемся…
Они медленно пошли по улице мимо метро, оскальзываясь на мерзлых кочках.
Наконец Митя решился.
— Оленька, — сказал он проникновенно, — я должен тебе кое-что сказать…
— Скажите… — прошептала она.
И Митя вдруг отметил, что Оля вообще сегодня другая. Будто и не Оля, а ее младшая сестра-школьница, стоящая перед распекающим ее учителем.
«…О, Господи!.. Как все трудно», — подумал он.
— Милая моя Оленька… — снова начал он тягостный разговор. — По-моему, мы слишком далеко зашли. — Он ощутил менторство своего тона и понял, что говорить надо совсем не так… Как? Он не знал. Он и с детьми своими не умел говорить, а тут… — Оленька, я же стар для тебя! У меня трое детей, Оля, трое! Ты понимаешь? Я как-то совсем с тобой потерял голову, забыл обо всем… Это грешно. Трое детей!.. — зациклился Митя сам на этой цифре.
Оля посмотрела на него сегодня своими странными опущенными глазами и ответила:
— Я знаю, Вадим Александрович… Меня сегодня начальница вызывала и со мной говорила… И сказала про ваших детей. Про нас с вами сплетню пустили, что мы… живем. Я знаю, кто это.
Митя содрогнулся.
А Оля заторопилась:
— Это девчонки от зависти. Они меня и вас ненавидят! Мне начальница запретила с вами встречаться. Она так кричала на меня и сказала, что вы — развратник!..
Митя понимал, что все, о чем рассказывает Оля, ему на руку. Не хочется только, чтобы она сама пришла к такому же мнению…
А утром надо не прийти на работу и начать подыскивать себе жилье. Спартаку позвонить в конце концов! Совсем Митя забыл друга, сволочь он на самом деле!
И все начать сначала. С САМОГО начала.
— Оленька, — сказал он нежно, — девочка моя…
Но она его прервала.
— Вам тоже запретили!
Оля отвернулась, и плечики ее затряслись.
— Мне не запретили. Никто не имеет права мне что-либо запрещать. Впрочем, как и тебе, — суховато сказал Митя. — Просто мы с тобой сами ошибаемся и творим непоправимое…
Оля снова прервала его истерично:
— Вы не любите меня, Вадим Александрович! И не любили! Вы бросаете меня!.. А я вот…
Она выхватила у него сигарету и прижала круглый огонек к руке.
И смотрела на Митю расширившимися глазами.
— Глупая девчонка! — сказал тихо Митя, отрывая сигарету. Оля побелела от боли и даже губы побелели. — Глупая, глупая, — повторял Митя, прикладывая к ранке снег.
И вдруг подумал, что он сам опять совершает глупость, а не она. Почему он именно сегодня отталкивает эту девочку? Когда его самого оттолкнули и выбросили? Может быть, она вообще в его жизни последняя, кто таким трагическим голосом признается ему в любви…
Но все же он решил еще раз пробиться к ее разуму:
— Оленька, я же мужчина все же, хоть и старый… Мы не можем так встречаться… Я не хочу причинить тебе зло, для этого я слишком хорошо к тебе отношусь…
Митя не посмел сказать «люблю» — это было бы враньем и выглядело бы пошло. Лучше быть черствым, чем пошлым.